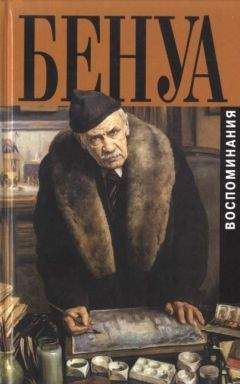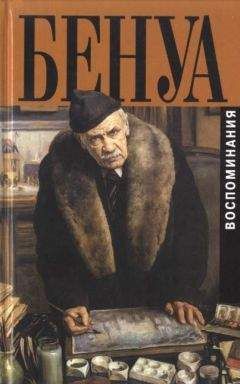Александр Бенуа - Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)
Что же касается до моего отношения вообще к отцу, то для периода раннего детства я не могу иначе его характеризовать, как словом "обожание". Мама составляла в те годы (лет до шести) столь неразрывное со мной целое, что я даже как-то не "ощущал ее в отдельности", и поэтому я даже не мог и обожать ее - ведь обожание означает некое "объективное" отношение. Напротив, при всей моей близости к папе, личность его представлялась мне отдельной; я его видел, я к нему обращался, я что-то от него ждал и получал. И у меня сохранился от тех далеких дней детства целый ряд воспоминаний о нем, тогда как о маме для тех же лет у меня их до крайности мало.
Папочку я вижу, как он меня носит в ночную бессонницу по всей квартире, стараясь меня успокоить, когда я весь дрожу после напугавшего меня кошмара. Или вот, посадив меня на колени, он любуется как я, схватив карандаш, быстро покрываю лист за листом своими каракулями. Или еще он меня уже раздетого для спанья, в одной рубашонке, а то и просто нагишом, показывает, как "Петрушку" над альковной перегородкой ахающим от умиления тетушкам. А вот и такие ранние воспоминания: я на коленях у папы и испытываю предельное блаженство, глядя как из-под его карандаша появляются на бумаге солдаты, барабанщик у часовой будки, лающие собаки и спящие кошки, рыцарь, весь закованный в броню, санки, запряженные рысаком или какие-либо шутки, карикатуры. Смеясь при виде их до слез, я тычусь головой в его халат, а он меня тискает, щекочет и с упоением целует, приговаривая "папин сын".
Каждый раз при этих воспоминаниях я отчетливо вижу свое божество таким, каким я его видел в те дни. Я вижу его добрую улыбку, его милые серо-зеленые глаза, прикрытые поблескивающими очками. Я ощущаю и запах его пропитанного сигарами халата, я различаю жилки на его стареющих руках, я слышу его голос, его шутки и прибаутки или те прозвища, которые он давал всем нам на каком-то вымышленном языке - целая серия этих слов была посвящена именно мне последнему. А вот папочка сел за рояль в гостиной и играет (по слуху) полковой марш, я же под него марширую с ружьем в руках и с каской на голове, стараясь производить повороты "совсем по-военному". Вижу папу и за работой в те дни, когда мне было строго запрещено мешать ему. Дымя сигарой, он что-то рисует на одном из высоких столов в чертежной и группа помощников обступает его, внимательно следя за тем, что он им, не переставая рисовать, объясняет. Или вот в своем кабинете он сидит на стуле с вычурной спинкой и с кожаным сидением (У нас было два таких подлинных Чипендэля, но они были не красного дерева, а искусно резаны в дубе.) и что-то пишет, пишет при свете той особой масляной лампы, которую он сберег с древних времен своей юности.
Не могу не рассказать здесь же, (а то где еще найдется для этого место) об этих, только что упомянутых, постоянных помощниках папы, которые в то время были "своими людьми" в нашем доме и к которым я очень благоволил, так как и они всячески баловали меня. Особенно ласков был Карл Карлович Миллер, уже пожилой немец с темно малиновым лицом, но его ласк я побаивался из-за его плохо выбритой, ужасно колючей бороды. Контрастом ему являлся Антонин Сергеевич Лыткин, молодой, высокий, довольно красивый господин, с длинной холеной бородой. Лыткин сохранял постоянно достойную серьезность, под которой, впрочем, было больше стеснительности, нежели спеси. Третьим помощником был "Саша" Панчетта, которого скорее следует зачислить в категорию "домочадцев". Он был пасынком доктора деда Кавоса, синьора Киокетти, и хотя сам доктор давно отошел к праотцам, однако вдова его и ее сын продолжали быть чем-то вроде членов нашей семьи. Без них не обходилось ни одно сборище, а кроме того Панчетта, избравший архитектурное поприще и пожелавший состоять у папы в помощниках, мог являться к нам чуть ли не ежедневно.
Панчетта числился помощником, но в сущности его "помощь" сводилась к нулю. Он и его печальная мамаша обладали достаточным состоянием, чтобы вести незатейливый, но и безбедный образ жизни и этим они удовлетворялись вполне. Отсюда непробудная лень Александра Павловича. Панчетта проболтается с четверть часа в чертежной, а затем наровит проникнуть в другие комнаты и подсесть к маме или к сестрам, занимая их разными разговорами. Темами служили: погода, извозчики, дворники, дурные мостовые, взятки полиции и т. д. При этом Саша Панчетта имел замашки "настоящего элеганта". И всклокоченная, но расчесанная борода, в которую он то и дело просовывал пальцы с предлинными холеными ногтями, и криво свисавшая на лоб прядь волос должны были свидетельствовать о принадлежности Панчетты к людям лучшего общества. В смысле общества, однако, он довольствовался нашим домом и еще двумя тремя такими же художественными, отнюдь не светскими, домами. Надо прибавить, что беспредельное благодушие этого никому ненужного и совершенно бездарного, но всё же в своем роде милого человека - обеспечивало ему всюду, если не радостный, то всё же радушный прием и всюду он был на положении какого-то "далекого родственника". Ребенком я его очень любил, хотя меня смущали его длинные ногти и то, что Саша Панчетта сильно косил, что придавало ему всегда растерянный и недоумевающий вид.
Был у папы в моем детстве еще и четвертый помощник по фамилии Мореплавцев. Это был исключительно даровитый человек, превосходный рисовальщик и акварелист, но к сожалению, он был сумасшедшим. Временами он произносил самые несуразные речи, среди разговора или работы начинал как бы к чему-то прислушиваться, вдруг хватался за шапку, мчался на улицу, а через минуту, крадучись, возвращался и снова садился за работу, как ни в чем не бывало. Естественно, что о нем у нас было много разговоров, я на него взирал с некоторой опаской и с большим любопытством. Папа пробовал бедного Мореплавцева образумить, отечески журил его, но в общем он был им доволен и нередко поручал ему особенно трудные задачи, с которыми тот великолепно справлялся. И вдруг приходит известие, что Мореплавцев - Meereschwimmer, как стояло на оборотной стороне его визитной карточки, зарезался бритвой. В первый раз самоубийцу удалось спасти, но во второй раз он повторил свой жест с такой энергией, что почти отсек себе голову. Произошло это событие, когда мне было не более пяти лет, но я запомнил тот ужас, с которым я представлял себе столь хорошо мне знакомого человека, лежащим в луже крови с отделившейся головой.
Итак, когда я хочу вызвать в себе представление о своем отце - в те ранние годы моего существования, то я вижу его в качестве мне очень близкого, но всё же отдельно от меня стоящего "божества". Напротив, я, повторяю, почти не вижу в те годы мамы. Она так тесно, так нежно окутывала меня своей заботой и лаской, что я и не мог ее видеть. Явившись на свет вскоре после кончины моей маленькой сестры Луизы, о которой мои родители не переставали скорбеть, я естественно сделался предметом особенного их попечения и тем, что немецкие бонны называли Schooskindchen.
Не встречая со стороны матери никакого сопротивления моему деспотизму, я естественно злоупотреблял и мучил ее. Но мог ли я это сознавать? Мог ли я в этом раскаиваться? К тому же мама никогда не жаловалась и брала меня под защиту даже тогда, когда я уже этого никак не заслуживал.
Дальнейшие взаимоотношения наши, между мной и родителями, стали меняться. По мере того, что я рос и из младенца с личностью весьма смутной превращался в мальчика с независимым и довольно таки капризным характером, связь моя с отцом стала ослабевать. А когда я из мальчика превратился в отрока, то временами эта связь и вовсе нарушалась. До настоящего разрыва, слава Богу, так и не дошло, но, несомненно, что папа и я - мы "перестали понимать друг друга", и это тем более объяснимо, что между отцом и сыном разница в годах была у нас "не нормальная", а в целые полвека. Теперь, впрочем, мне думается, что именно благодаря столь большой разнице - мы, пожалуй, и не были так уж далеки. Ведь идеалы юности отца стали и идеалами моей юности, лишь с несколько иным оттенком. Я, как и папа, был насквозь пропитан романтикой тогда, как позитивистские идеи, которые владели умами в 1870-х годах, были мне чужды и даже омерзительны. Лишь на очень недолго длившийся момент, подпав под влияние более "передовых" людей я "простившись с предрассудками", приобрел четырнадцати лет и какие-то замашки циника. И вот как раз этот короткий момент и оказал разлагающее действие на мои отношения с папой. Ему, семидесятилетнему человеку, не хватило тогда внимания, чтобы разобраться в том, что во мне происходит и насколько мое мальчишеское вольнодумство неглубоко и несерьезно.
Его это слишком огорчало и возмущало. Я же в силу нелепости, присущей "неблагодарному" возрасту, принялся тогда чуть ли не презирать отца за его "отсталость". Несколько резких стычек с папой, происшедших в этот период, обострили эти недоразумения, и во мне укоренилось убеждение, что мы натуры совершенно друг другу чуждые, не способные ко взаимному пониманию и, разумеется, при этом я мнил себя несравненно более совершенной и изощренной натурой, нежели мой, уже слишком простоватый и "слишком старосветский" родитель...