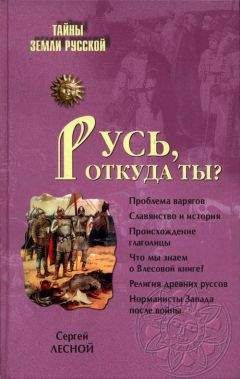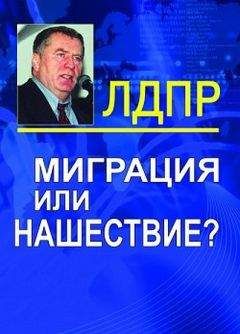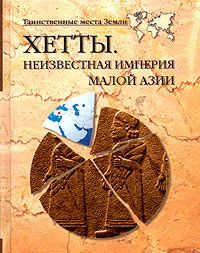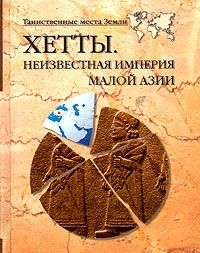Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости
Однако слова своего Антонов не сдержал, восстание вспыхнуло с новой силой.
— Вот тогда я и поседел, — сказал рассказчику Степанов. — Не позже.
В 1924 году он демобилизовался и поступил под начало Орджоникидзе, с которым тоже сошелся еще в Шлиссельбургской крепости, в Рабоче-крестьянскую инспекцию.
Там он прослужил несколько лет, а к концу третьего года стал замечать слежку — кто-то просматривал его бумаги и переписку.
Вскоре Степанова вызвали на Лубянку, и следователь спросил, действительно ли, Степанов, будучи командиром Красной Армии, в военной обстановке отпустил на свободу захваченного в плен Александра Антонова?
Так Михаил Степанович и оказался на Соловках…
Рассказ не доработан Варламом Шаламовым.
Никак не обыграно название его, и концы с концами в этой романтической истории тоже не сведены воедино, ну, а главное: никогда ведь не сковывали в Шлиссельбурге каторжников попарно, никогда не попадал Александр Степанович Антонов в плен к красным…
Не только среди тамбовских крестьян, но и среди чекистов даже легенда существовала о его неуязвимости.
«Все облавы на него кончались ничем, так как он всегда в последнюю минуту, не теряя самообладания, окруженный довольно плотным кольцом чекистов, выходил из него с самым невозмутимым видом, с маузером в руках, надетым на деревянную колодку кобуры-приклада, — рассказывал, например, уполномоченный ЧК Коренков. — Он начинал спокойно, не моргнув глазом, расстреливать его окружавших, стараясь их уничтожить как можно больше. Как только ему удавалось застрелить с десяток чекистов, он спокойно, не спеша уходил в лес».
Только 24 июня 1922 года начальнику отдела по борьбе с бандитизмом Михаилу Ивановичу Покалюхину со своими оперативниками удалось окружить в Нижнем Шибряе дом, где скрывался Антонов и, подпалив его, убить героя последней крестьянской войны.
Можно отметить и другие несоответствия в рассказе «Эхо в горах», но и упомянутых нами хватает, чтобы разрушить рассказ, поскольку именно на этих несоответствиях он и выстроен.
И, тем не менее, если не сам рассказ, то, по крайней мере, его замысел, конечно же, глубже. Художественная правда вполне могла восторжествовать в этом рассказе над документальной точностью…
7Хотелось бы обратить внимание, что Варлам Шаламов сводит в своем рассказе не просто двух узников Шлиссельбургской крепости, а двух эсеров-максималистов. И если насчет пребывания Александра Степановича Антонова в Шлиссельбурге известно только из его биографии, то насчет пребывания его в тамбовской группе максималистов сомнений нет.
Михаил Степанович Степанов и по рассказу, и по документам принадлежал к боевке Медведя-Каина, о которой мы так подробно рассказывали в главе «Цветы зла». Скорее всего, в теракте на Аптекарском острове он не участвовал, а был привлечен в качестве «пехоты» лишь к налету на инкассаторов в Саперном переулке. Ни разорванных на клочья детей, ни убитых беременных женщин в его активе, как и у Александра Степановича Антонова, не было.
Может быть, поэтому и не удавалось им принять с безоглядной легкостью Владимира Осиповича Лихтенштадта большевистскую редакцию революции.
М. Н. Тухачевский
О тамбовской крестьянской войне написано чрезвычайно много, но в этом ворохе публикаций как-то пропадает простая и очевидная истина, что эта война была выиграна тамбовскими крестьянами.
В феврале 1921 года вначале на Тамбовщине, а через месяц и по всей стране, отменили ненавистную продразверстку и вместо нее ввели более мягкую систему продналога.
Говорят, что крестьяне кричали тогда «Мы победили!», а Александр Степанович Антонов, слушая эти радостные крики, сказал:
— Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка!
Действительно, уже весною 1921 года началась расправа.
На Тамбовщину была введена 120-тысячная группировка под командованием кровавого палача М. Н. Тухачевского.
Пытаясь смыть позор проигранной польской кампании, Тухачевский, подобно генералу из рассказа «Запечатленный ангел» Н. С. Лескова, решил за свою бездарность и кичливость отыграться на русских деревнях.
25 мая кавалерийской бригадой Г. И. Котовского были разбиты и рассеяны повстанческие полки 1-й армии. А 2–7 июня сводная группа И. П. Уборевича уничтожила основные силы 2-й повстанческой армии.
Но М. Н. Тухачевский — вспомните лесковского генерала, который тыкает «кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик» — не остановился на этом.
11 июня 1921 года он отдает приказ № 0116.
«Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей.
Для немедленной очистки лесов приказываю:
1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.
2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.
3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.
4. О принятых мерах донести.
Командующий войсками Тухачевский».
Однако вклад любимца Л. Д. Троцкого в развитие науки воевать с русским народом этим не ограничился. Через несколько дней появился не менее людоедский приказ № 0171, в соответствии с которым в селах брались и расстреливались заложники, если население не выдавало антоновцев и их семьи. Если расстрел первой группы крестьян не давал желаемого результата, то тут же набиралась для расстрела следующая партия заложников.
И вот Михаил Степанович Степанов оказался среди тех, кто так расправлялся с народом. Только ведь ему не нужно было смывать с себя русской кровью вину за провал наступления на Варшаву, поэтому-то и ходит он в рассказе Варлама Шаламова, молча, по вагону, а Антонов «печально улыбается, глядя на старого товарища»…
И Антонов, «которому было легче», хорошо понимает «нравственные муки товарища по каторге»…
8Шлиссельбург — город-ключ.
Открыть шлиссельбургским ключом тайну послереволюционных событий, когда власть, называющая себя народной и рабоче-крестьянской, развязала беспощадную войну с русским народом и трудовым крестьянством, пытался не только Варлам Шаламов.
С. А. Есенин
Задолго до него, еще в 1924 году, это попытался сделать Сергей Есенин, написав «Поэму о 36»…
Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
Так, в ритме, напоминающем хождения узника по камере, начинается есенинская поэма о политкаторжанах Шлиссельбурга.
Обыкновенно и читатели Есенина, и исследователи его творчества проходят мимо «Поэмы о 36», которая, хотя и написана не «по-есенински» суховато, но тем не менее важна и в его творчестве, и его биографии.
Напомним, что за месяц до создания поэмы, в июле 1924 года, вышел сборник Сергея Есенина «Москва кабацкая». Издать его удалось с помощью шурина Григория Евсеевича Зиновьева старого шлиссельбуржца Ильи Ионовича Ионова (Бернштейна).
Впрочем, марку Ленинградского отделения Госиздата, которое он возглавлял, Илья Ионович поставить на «Москву кабацкую» не решился, да и типографские затраты пришлось оплатить самому автору сборами за авторский вечер, устроенный 14 апреля 1924 года в «Зале Лассаля» (бывшем зале Городской думы).
Тем не менее сборник, почти все стихи которого вошли в сокровищницу русской лирики, был напечатан и напечатан удивительно быстро.
Разумеется, кое-что пострадало… В частности, стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут».
Из него исчезла третья строфа:
Ах, сегодня так весело росам,
Самогонного спирта — река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека…
И седьмая:
Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.
Купюры серьезные…
Особенно, если вспомнить, что, по мнению тогдашней критики, у Есенина и Пугачев — не исторический Пугачев, а антитеза. «Пугачев — противоречие тому железному гостю, который «пятой громоздкой чащи ломит». Это Пугачев — Антонов-Тамбовский, это лебединая песня есенинской хаотической Руси, на короткое время восставшей из гроба после уже пропетого ей Сорокоуста»…