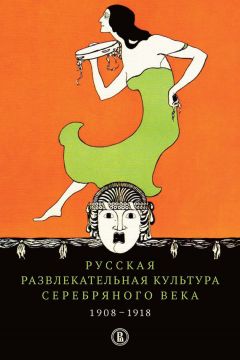Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Впоследствии Самойлов написал специальные воспоминания «Хлебников и „поколение сорокового года“», в которых попробовал нарисовать картину влияния Хлебникова на каждого из них. Вероятно, он был прав насчет себя:
Тогда я интересовался первобытным мышлением, марровскими четырьмя элементами, хотелось добраться до основ речи и образа, смыть с них нагар литературы. Трогала первозданность «И и Э», «Вилы и Лешего», «Шамана и Венеры». Пытался подражать интонации этих поэм. Тогда написал «Пастуха в Чувашии» <…> и небольшую поэму «Мангазея» («Падение города») о старинном восстании инородцев, разрушивших северный город Мангазею. Там было и хлебниковское восстание, и хлебниковский шаман:
Шаман промолвил: «Быть беде!»
И в бубен бил, качаясь,
А слезы стыли в бороде,
В корявых идолах отчаясь.[952]
Но что касается его суждений о соотнесенности других поэтов с традицией Хлебникова, то здесь, кажется, были у Самойлова более точные суждения в других местах. Так, в воспоминаниях о Михаиле Кульчицком он рассказывал: «Вероятно, именно приверженность к „левому фронту“ послужила причиной того, что его стали привечать у Бриков. <…> Мишу у Бриков намечали в продолжатели Маяковского, Глазкова — в продолжатели Хлебникова»[953]. Не имея иной информации о замыслах Бриков, не можем сказать что-либо более внятное по этому поводу, но то, как ситуация выглядела в глазах Самойлова, заставляет вернуться к тому, что мы говорили о восприятии Хлебникова на фоне другого поэта.
12 декабря 1939 года Михаил Кульчицкий пишет стихотворение «Маяковский (Последняя ночь государства Российского)», а менее чем через полгода после этого — одно из лучших, на наш взгляд, посвящений Хлебникову[954]:
Хлебников в 1921 году
В глубине Украины,
На заброшенной станции.
Потерявшей название от немецкого снаряда,
Возле умершей матери — черной и длинной —
Окоченевала девочка
У колючей ограды.
В привокзальном сквере лежали трупы;
Она ела веточки и цветы,
И в глазах ее, тоненьких и глупых,
Возник бродяга из темноты.
В золу от костра,
Розовую, даже голубую.
Где сдваивались красные червячки,
Из серой тюремной наволочки
Он вытряхнул бумаг охапку тугую.
А девочка прижалась
К овалу
Теплого света
И начала спать,
Человек ушел — привычно устало,
А огонь стихи начал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом,
Сжигал
Свои
Марсианские
Очи,
Как сжег для ребенка свой лучший том.
Зрачки запавшие.
Так медведи
В берлогу вжимаются до поры,
Чтобы затравленными
Напоследок
Пойти на рогатины и топоры.
Как своего достоинства версию,
Смешок мещанский
Он взглядом ловил,
Одетый в мешок
С тремя отверстиями:
Для прозрачных рук и головы.
Его лицо, как бы кубистом высеченное:
Углы косые скул.
Глаза насквозь.
Темь
Наполняла въямины,
Под крышею волос
Излучалась мысль в года двухтысячные.
Бездомная,
бесхлебная, бесплодная
Судьба
(Поскольку рецензентам верить) —
Вот
Эти строчки,
Что обменяны на голод,
Бессонницу рассветов — и
На смерть:
(Следует любое стихотворение Хлебникова).
Такое соединение двух имен, на наш взгляд, было совершенно органично для молодого поэта рубежа тридцатых-сороковых годов из числа ориентированных не на почти официально продвигавшуюся в печать и в сознание читателей поэзию, условно говоря, «простого слова», где в равной мере одобрялись Твардовский и Исаковский, Лебедев-Кумач и Виктор Гусев, но на недавно санкционированную свыше поэзию «левого фланга». Только теперь он понимался не как нечто отдельное, но скорее как что-то фрагментарно сконструированное из обломков уничтоженных резолюцией 1932 года литературных объединений — Лефа (Нового Лефа, Рефа), конструктивистов, случайно уцелевших заумников, вроде Крученых. Не случайно большинство из этих поэтов (опять-таки, если верить воспоминаниям и дневникам Самойлова) отходит в конце тридцатых от повального увлечения Пастернаком, столь характерного для их ровесников середины тридцатых, да и для них самих несколькими годами ранее. Пастернак в ночь на 1940 год поднимает тост за то, чтобы ему удалось изменить свою творческую манеру (об этом вспоминал очевидец — С. М. Бонди). Как деликатно выразился Е. Б. Пастернак — «субъективно-иррациональные стороны восприятия и желание передать жизнь в быстрой смене впечатлений он подчиняет разумным началам уместности и чувству меры»[955]. Поэты «поколения сорокового года», наоборот, идут под начало Асеева, Сельвинского, Луговского, Антокольского, Кирсанова. В этом перечне, опять-таки заимствованном из воспоминаний Самойлова, сконцентрированы имена, прежде связанные с Лефом (Асеев и Кирсанов) и конструктивистами (Сельвинский и Луговской), да и Антокольский, хотя в институализированные группы не входил, воспринимался как поэт, ориентированный на «левизну».
В этой тенденции прислушиваться как к учителям к поэтам, стремившимся сохранить хотя бы некоторые очертания «левой поэзии», отчетливо просматривается и общая линия отношения к Хлебникову. У него заимствуется утопическая тематика и атрибутика, некоторые (не самые радикальные) особенности стихосложения, опосредованный студенческими штудиями интерес к славянскому корнесловию, а также отдельные черты жизненного поведения. Так, нельзя не обратить внимания, что стихотворение Кульчицкого как будто перепевает воспоминания Спасского, хотя писалось независимо от них и основывалось на иных источниках: «Жилось Хлебникову всегда плохо. Он бедствовал и не имел пристанища. Лучшие друзья часто уставали от него, не будучи в силах справиться с его неприспособленностью и неорганизованностью. <…> Случайные издатели запускали руки в разваливающиеся вороха его рукописей и, наугад, вытащив связку, россыпью печатали его стихи. <…> Имущество Хлебникова ограничено. Оно помещалось в вещевом мешке. Туда укладывались накопившиеся рукописи, листки с мелкими значками и буквами. Буквы роились, как насекомые. Кроме бумаг, мешок содержал куски хлеба. Поломанные коробки папирос. Ночами мешок мог служить подушкой. Иногда добавлялся причудливый груз, вроде кустарных ящичков или игрушек» (С. 64–65).
Пожалуй, именно трех этих пунктов и казалось достаточно, чтобы полагать себя или других наследниками Хлебникова. Вспомним, что на роль наследников претендовали Ксения Некрасова (ее называл в этом качестве Асеев[956]) и Николай Глазков, причем легенда о Глазкове как продолжателе Хлебникова была едва ли не канонизирована: во всяком случае, именно с нее начинает Евг. Евтушенко предисловие к представительному сборнику стихов Глазкова[957]. Но, как нетрудно убедиться, такое впечатление было поверхностным и потому ложным. О первой из них точно написал Самойлов: «…некоторые черты интонационного сходства обманывают. Есть поэты, которые по своему устройству мало воспринимают от других. Такова и Ксения Некрасова»[958]. Что же касается Глазкова, то решительно отделяла его от Хлебникова сквозная ирония, которой творчество старшего поэта начисто лишено.
Что же касается того, что мы осознаем как главное в творчестве Хлебникова, то оно не было в те годы воспринято. Сравним то, что Асеев говорил студентам Литинститута про Хлебникова, с их собственной поэзией. Асеев: «Он <Хлебников> на самом деле интересовался главным образом своими математическими исчислениями»[959]. Никакого отклика. «Он видел историю, видел время на таком огромном протяжении, что становилось как-то так, что холодок по телу пробегал…»[960] (Асеев). У молодых история представала только как прошлое, а не время во всех измерениях, «…знаменита в нашей среде его „Азбука ума“, где он говорит о том, что значимость, смысл уже складывается в звуке, что первоначальным корнем слова был звук…»[961] — и это проходит бесследно. Из творчества Хлебникова выветривается то, что можно было всерьез воспринимать как ядро, и остается только внешнее подобие.
Миф Хлебникова, складывающийся в творчестве молодых поэтов того времени, — миф, улавливающий только ничтожную часть того богатства, которое могло дать его творчество. Но такое положение вещей было обусловлено временем. И тут, пожалуй, следует вернуться к статье, поминавшейся в начале нашей работы, авторы которой предлагают такое объяснение: «Косвенной политической причиной таких совпадений, как одновременный выход книг Хлебникова, Чурилина и Асеева, было стремление сталинского режима консолидировать общество на новых, националистически-имперских, а не классовых основаниях, а также, возможно, слабая и краткая „псевдооттепель“, связанная с назначением Л. П. Берии наркомом внутренних дел. Но есть и другая причина, не связанная напрямую с политикой: вероятно, людьми постсимволистского поколения, т. е. теми, кто родился в конце 1880-х и в 1890-х годах, была к этому моменту пройдена достаточная дистанция — временная и психологическая — чтобы приступить к мифологизации навсегда утраченной и насильственно вытесненной из общественной памяти эпохи (в эмиграции эти процессы начались намного раньше)»[962].