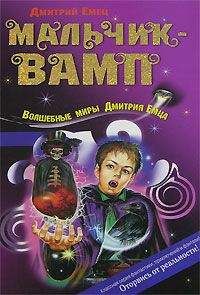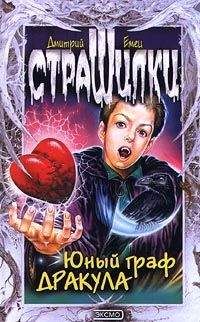Дмитрий Емец - Сборник фантастических рассказов
Четыре раза в неделю она приходила делать уколы и за дополнительную плату покупала продукты. У нее было серое одутловатое лицо. Брови она зачем-то выщипывала, но зато над верхней губой, ничем не сдерживаемые, топорщились усики. Жалуясь на своего сожителя, она задирала юбку на толстых венозных ногах и с удовольствием демонстрировала царапины и лиловые синяки.
Михайлов подозревал, что медсестра ворует и что хрустальную вазу, о которой сказала, что разбила, она в действительности пропила. Перед тем, как уйти, медсестра стала просить у Михайлова денег. По непонятной причине она подозревала, что у калеки кое-что припрятано.
— Вынужден вас разочаровать. Пенсия двадцатого, — сказал Михайлов. Он всегда выражался немного выспренно, что, помнится, смешило жену.
— Может, из вещей чего-нибудь? — Сиделка забегала глазами по комнате. –
Скажем, шаль. Я там в шкафу видела.
— Вы были в ТОЙ комнате и рылись в ЕЕ вещах? Как вы открыли дверь?
— Ничего я не рылась, просто посмотрела… Уж и посмотреть нельзя… А ключ вы оставили на кухне. Думаю, дай загляну, может, там уже все моль пожрала…
— Верните немедленно ключ!
— Да подавитесь вы! Нате!
Медсестра рассерженно стала заталкивать в сумку железную коробку со шприцами и ампулами.
— И повернется же язык! И это вместо благодарности! Да чтобы я взяла чужое… Все равно все сгниет… Ей на том свете ничего не нужно…
И она ушла, хлопнув дверью…
Легче всего Михайлов переносил одиночество. Тогда пропадало ощущение времени, и вчера смешивалось с сегодня, а сегодня со завтра.
Днем он часами сидел, уставившись в окно, или рассматривал альбом с фотографиями. На фотографиях жена и сын жили, меняли прически и платья улыбались, ходили в цирк, а их могилы уже год как заросли одуванчиками, сквозь которые проступала верхушка креста с надписью: Инв. N 123. В этом было какое-то противоречие, пытаясь осознать которое Михайлов впадал в оцепенение тупое, бездумное и — потому блаженное.
Все зеркала в доме были завешены. Это было первым, что он сделал, когда его выписали из больницы… Он подъехал к большому зеркалу в коридоре подъехал очень медленно: пользоваться каталкой он тогда еще не научился, и с минуту изучал свое отражение: сгорбленный человечек в инвалидной коляске крохотный, занимающий только самый низ зеркала… Плохо зарубцевавшиеся шрамы на щеках от разбившегося стекла, между которыми кустилась густая щетина… Но испугало Михайлова не это: самым страшным была пустота и тишина, надвигавшаяся на него со всех сторон и смотревшая со стен и книжных полок этой некогда полной веселья и счастья квартиры…
Покрывало, которое Михайлов набрасывал на стекло, все время падало, и опять зеркало отражало крохотного человечка с изрезанным лицом.
Вторую комнату Михайлов запер на ключ. Там все осталось так, как было в самый последний день, когда они торопились на дачу — одежда жены на спинках стульев, пересохшие цветы на окнах и разбросанные игрушки сына… Жена и сын погибли сразу, а Михайлов в полном сознании попал в реанимацию со сломанным позвоночником. Лежа на больничной постели, Михайлов десятки раз невольно переигрывал эту ситуацию. «А если бы он затормозил… А если бы вывернул руль…»
В этот было что-то очень скверное и циничное: собирать целый год на «десятку», занимать деньги, выбирать расцветку машины и обивку сидений и этим только приближать день и час, буквально подталкивать себя и близких себе людей к могиле.
Михайлов был за рулем машины, которая через минуту должна была стать расплющенной банкой консервов. Рядом на переднем сидении стоял ящик с рассадой и были свалены в кучу непоместившиеся в багажник вещи. Лена, держа на коленях сына, сидела сзади и рассказывала анекдот, обстоятельно и немного недоуменно как она это всегда делала: «Сидит один мужик на кухне и вдруг слышит, что в его холодильнике что-то звенит. Он открывает холодильник, смотрит, а там телефон…» Анекдот так и остался недосказанным, но Михайлов часто пытался угадать, чем он мог закончиться. Почему-то ему казалось, что это важно.
По ночам часто повторялся один и тот же сон. Лена стоит на пригорке возле реки или озера. Лицо ее напряжено и руки прижаты к груди. Она одета в водолазку и джинсы, те самые, что были на ней в последний день. Лена не любила всякой хитрой женской одежды и косметики, требующей времени. Даже волосы она всегда стригла коротко, по-мальчишечьи, что ей, впрочем, шло. Ну так вот сон… Рот Лены растягивается в крике, но слов нет — их сносит ветром, хотя самого ветра тоже, в общем-то, нет. Кажется, что Лена кричит ему что-то очень важное. Михайлов во сне пытается подойти к жене, но не может: ноги вязнут в чем-то, что не дает ему ступить и двух шагов.
Нельзя сказать, чтобы Михайлов верил в сны. Но боль в изувеченном теле внутренние страдания и одиночество пробуждали у него ощущение нереальности окружающего мира, и бывали моменты, когда он плохо различал, где сон и где явь. Потом, в минуты пробуждения обыденного сознания, он говорил себе: «Все объяснимо. Дело в том, что я болен… Я боюсь увидеть этот сон, думаю о нем безостановочно и, как следствие, он снится мне ночью. Так часто бывает и это нормально. Я не сумасшедший, а если даже и сумасшедший, но это уже не важно.»
Много ночей подряд повторялся изнуряющий сон, когда по движению губ жены он напрасно пытался разобрать слова, но потом… потом все изменилось.
Михайлов увидел другой сон, очень короткий и яркий. Семь легко запоминающихся чисел, составленных из гимнастических обручей.
0000000.
Проснувшись, Михайлов долго лежал не шевелясь и не пытаясь перебраться в инвалидную коляску.
Конечно, это всего лишь сон, бессмыслица, верить ему нельзя. Но… могло ли это число что-нибудь значить?
0000000 — Семь раз ничего… Семь цифр в телефонном номере.
Михайлов придвинул к себе телефон, набрал бессмысленный номер и стал ждать. 000 00 00. Прошло несколько секунд. Ничего не происходило. Телефон только потрескивал. Гудков не было. Михайлов подождал с полминуты и решил уже повесить трубку. Он уже протянул руку, чтобы нажать на рычажок, ему даже показалось, что он нажал на него, но вместо длинного гудка он вдруг услышал в трубке голос. Михайлов даже испугался. Ведь не было никаких гудков! Но медленно поднес трубку к уху.
— 000 00 00. Вас слушают, — голос на том конце провода звучал устало. — Вы набрали 000 00 00. Говорите.
— Простите, я не знаю… Куда я попал? Не было гудков и я… — нерешительно произнес Михайлов.
— Вы попали туда, куда звонили. Служба 000 00 00. Чем можем быть полезны?
— Видите ли… — начал было Михайлов, но тут вдруг осознал всю незатейливую нелепость ситуации. Не мог же он сказать, что номер телефона приснился ему во сне. Тогда бы с ним просто не стали разговаривать.
— Может быть, я ошибся номером…
— Не думаю, — голос в трубке звучал иронически, — Не думаю, что сюда можно ошибиться номером. Можно звонить 02 и попасть 01, но семь раз набрать 0…
— Но такого номера нет! Я учил физику и…
— Если учили, зачем тогда было звонить?
— Не знаю… А что это? куда я попал?
— Как? Даже не знаете куда попали?
— Нет.
— Странные, однако, нравы… Это хранилище.
— Книгохранилище?
— Не совсем, — сказал бесполый голос, — Это хранилище душ.
— Что? Что вы сказали?
— Хранилище душ… Что же тут непонятного? — голос был бесконечно терпелив.
— Место, где хранятся души. Я думал, вы знаете. С кем из так называемых «усопших» вам хотелось бы поговорить?.. Алло, алло…
Михайлов осторожно положил трубку, потом взял телефонный аппарат и швырнул его через всю комнату в стену… Какая грязная шутка! Но откуда тот человек знал, что ему позвонят? И странный телефонный номер и то, что не было гудков и его навязчивая идея — все это было совершенно необъяснимо.
Михайлов выдержал час, потом поднял с полу телефон. После падения у аппарата отбился край, торчали какие-то провода, диск западал. Но телефон работал.
000 00 00.
— А, это вы, — сказал голос еще до того, как Михайлов успел произнести хотя бы слово, — Я знал, что вы перезвоните. Зачем было так переживать? Так с кем из умерших вы хотели бы поговорить?
— Что все это значит? Если это шутка, то я…
— А вас, должно быть, пугает слово «умерших»? — догадался его собеседник.
— Ну так это я так, для ясности. Если хотите, можем назвать их… м-м… усопшими, или душами на хранении, или успокоившимися…
— Успокоившимися?
— Видите ли, это зависит от характера смерти… — голос явно был рад поболтать. — Была ли она своевременной или нет. Спичку можно задуть, едва она разгорелась или дать ей самой догореть до конца. Во втором случае смерть можно считать своевременной. Я тут что-то разболтался, но вы представить себе не можете, как редко нам звонят… Кстати, вам никогда не приходило в голову, что склероз и маразм противоречат бессмертию души? То есть человек еще жив, а уже начинает по порядочку все забывать. Вначале забывает свой сегодняшний день потом вчерашний, потом у него остается только отрывочные воспоминания из юности, потом он тихонечно впадает в детство и готово… А все потому, что память смертна и живет она не так уж и долго… Наши души, как школьная доска сотрешь мел и начинай писать заново… — голос в трубке звучал убеждающе, но несколько лениво.