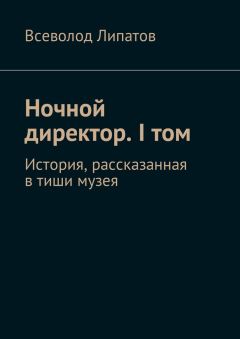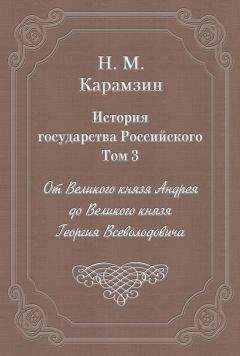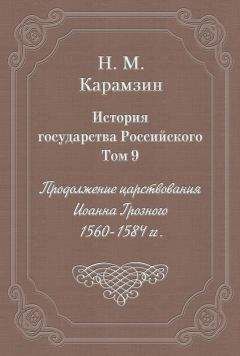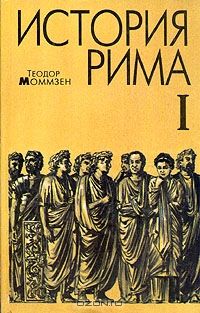Ю. Бахрушин - Воспоминания
Боярина Морозова со чадами До тысячи двухсот!
Далматов не выдержал, истово перекрестился и глубокомысленно произнес:
Огромное семейство.
Зрительный зал загрохотал от хохота.
Чарин припомнил, как оговорился Валентинов у Корша в пьесе «Ночное». Он совершенно не знал роли и вел ее все время под суфлера. Недослышек было тьма, но все они сходили не замеченными публикой, но наконец одна заставила весь театр разразиться смехом. Вместо того чтобы произнести: «Тебе-то, дедушка, хорошо, ты на пасеке сидишь», Валентинов выпалил: «Тебе-то, дедушка, хорошо, ты напакостил и сидишь…»
После этого разговор переменился. Возмущались, что не разрешают праздновать столетие со дня рождения Шевченко. Потом разговор как-то коснулся докторов. Чарин рассказал о случае, происшедшем с ним в Берлине. Приехав в Берлин, он захотел посоветоваться относительно своего здоровья с бывшим лейб-медиком Александра III профессором Лейденом. Знакомый Чарина, некто Редер, взялся свозить его к профессору, предупредив, что врачу за визит надо уплатить тридцать марок и чтобы Чарин положил в бумажник только эту сумму. После консультации Чарин, прощаясь, вручил Лейдену тридцать марок. Тот посмотрел и сказал: «Мало». Чарин заверил, что он, к сожалению, более не может и что даже и денег-то у него с собой нет больше. Тогда профессор протянул руку и преспокойно потребовал: «Позвольте ваш бумажник». Убедившись, что денег в нем нет, он вздохнул, поклонился и выпроводил Чарина из кабинета.
Разъехались во втором часу.
Это была рядовая суббота, но бывали субботы и многолюднее, и интереснее, и оживленнее. В этом году, правда, их количество несколько сократилось, так как, возвратившись из деревни в конце октября, мы через полтора месяца, в середине декабря, вместо обычной поездки за границу снова перебрались в Апре-левку. Это была моя первая зима за городом. Я не люблю этого времени года, не люблю холода, морозов, но зима в деревне, в особенности в тихий, морозный, солнечный день, полна такой неизменной прелести, что ради этого можно пренебречь всем. Выйдешь из дома, снег переливается всеми цветами радуги, тишина такая, что в ушах звенит, над деревенскими избами синий дым столбом поднимается в небо, а пойдешь — и заскрипит дорога под мягкими валенками.
Многое врезалось в память от этой первой зимы в деревне. К праздникам надо было сооружать елку. Решили выбрать и срубить ее своими силами. Нам запрягли двое розвальней, на одни сели отец с матерью, а на другие мы с Аксагарским, и, захватив топоры и веревки, весь поезд отправился на нашу лесную дачу.
Погода была чудесная. Приехав туда, отперли избушку лесника, растопили печку, поставили самовар и, пока мать готовила чай и разбирала привезенную с собой еду, отправились в лес. Снег девственный, никем не потревоженный, лишь расписанный многочисленными узорами следов зайцев, лисиц, тетеревей и прочих своих обитателей, лежал ровным, пушистым покровом. Лапы могучих елей гнулись под тяжестью снежных наметов, которые изредка тревожила пугливая белка. Тогда снег ссыпался вниз, обдавая серебристой пылью, быстро таявшей на лице.
Скоро подходящее дерево было найдено, свалено, приторочено к саням, и мы возвратились в лесную сторожку. За чаепитием и беззаботными разговорами мы и не заметили, как быстро стало темнеть. Наконец, спохватившись, вышли наружу, а от хорошей погоды и следа не осталось — все небо заволокло низкими тяжелыми тучами, и разыгралась ноземка. Быстро собравшись, мы пустились в обратный путь, но здесь повалил снег, который был быстро превращен ветром сперва в вьюгу, а затем в буран. Когда мы выехали из лесу, уже ничего кроме сплошных непроницаемых полотнищ снега не было видно. Даже бубенцы на хомутах лошадей заглохли. Наши сани ехали передовыми, я правил. Как только мы выехали на дорогу, я бросил вожжи, предоставив лошади самой разбираться в пути. Саней матери с отцом, которые ехали сзади, естественно, видно не было, так как мы на наших-то санях скорее угадывали, чем видели голову своей лошади. Но коняга не подвел, через полчаса езды по бокам дороги возникли туманные силуэты нашей деревни, и спустя несколько минут мы с елкой были уже дома. Но родители пропали, а буран не унимался. Ждали полчаса, час, а их все нет. Пришлось идти к церковному сторожу и просить его каждые четверть часа выбивать часы на колокольне. Но и это не помогло, оставалось одно — ждать окончания непогоды. Часа через два, когда уже смеркалось, ветер стал утихать и небо постепенно очищаться. Отец с матерью приехали, когда уже небо было покрыто звездами. Оказывается, они не бросили вожжей, как я, и быстро потеряли ориентацию. Часа через полтора блужданий они наконец выехали к какому-то домику. Это оказалось усадьбой мелкопоместного помещика Даксергофа, отстоявшей от нашей верстах в двенадцати. Там они и пережидали непогоду в компании на редкость разговорчивого и темпераментного хозяина, большого любителя старины.
Последующие дни проходили в подготовке и украшении елки. На второй день праздника мать пригласила на елку всех деревенских ребятишек. Они явились толпой, внеся с собой в зал морозную свежесть зимнего вечера. Сперва робели, конфузились, с немым удивлением взирали на разукрашенное дерево, но когда мать стала оделять их гостинцами и подарками, их застенчивость стала проходить. Посыпались вопросы, появилось желание поближе познакомиться со всем тем, что висело на елке, конечно, потрогать руками. А когда стали играть в горелки и в прочие игры, уже все окончательно осмелели и почувствовали себя свободно. Пробыв у нас часа четыре, они веселой гурьбой отправились по домам.
К Новому году морозы стали крепчать. В новогоднюю ночь, после встречи, мы взглянули на наружный градусник — он показывал 32 градуса ниже нуля по Реомюру, то есть почти 40 градусов по теперешнему исчислению. Мы, молодежь, а тогда ее собралось достаточно у нас, решили, конечно, идти гулять, чтобы испытать «полярный холод». Надо признаться, что мы оказались разочарованными — то ли от необыкновенной неподвижности воздуха, то ли оттого, что мы вышли из жарко натопленного дома, да еще выпив вина, но особого холода не ощущалось, было только трудно дышать да особенно ярко горели звезды и необычно звонко скрипел снег под ногами. Но красиво было сказочно. Наш парк принял какие-то фантастические очертания. Здесь-то и родилась у нас мысль о новой забаве, которую мы осуществили на другой день.
Выбрав в парке небольшую и хорошо запорошенную снегом елочку, с тем расчетом, чтобы ее хорошо было видно из дома, мы днем осторожно прикрепили к ее ветвям свечи, которые и зажгли, когда наступила ночь. Картина получилась волшебная, никакие елочные украшения не смогли конкурировать с тем богатством, которым разукрасила природа не только нашу елку, но и ее ближайших соседок. Все кругом искрилось и сияло, переливаясь разноцветными отблесками. Эти «елки для зайцев» мы впоследствии повторяли неоднократно.
Остался в памяти и еще один вечер. Посторонних никого не было. На дворе было морозно. В комнате горели камины, до которых отец был большой охотник. Сам он занимался у себя в кабинете. Поздно вечером он вышел размяться в другие комнаты и забрел в гостиную. Здесь задорно трещал камин и сидели все мы, каждый углубленный в свои дела. Отец долго молча смотрел на огонь, а потом подошел к пианино. Он взял переплетенные тома старых нот, доставшихся нам с прочим имуществом имения от прежних владельцев, и стал их просматривать. Там все были романсы времен его юности. Затем он открыл крышку и стал играть. Игра отца была чисто дилетантской — он учился мало и руководствовался больше слухом, — но отличалась редкой выразительностью и исключительной мягкостью туше. Затем он стал напевать вполголоса, а потом запел и в полный голос. Мы все застыли, так как отец никогда не пел, — я лично слушал его в первый раз. Он пел один романс за другим, вспоминал арии, которые он исполнял, его мягкий бархатный баритон звучал все свободнее и свободнее. Наконец он закрыл крышку инструмента, встал, оживленный и веселый, потянулся и заявил:
— Хорошенького понемножку. Пора чай пить да спать!
Это был единственный раз, когда я слышал пение отца. Праздники промелькнули быстро, и мы снова очутились в Москве. Вся первая половина этого года прошла у меня под знаком подготовки к выпускным экзаменам. Помимо усиленных занятий, были и тревожные думы о будущем. Надо было остановиться на каком-либо высшем учебном заведении, в котором я мог бы продолжать образование. Сердце лежало у меня только к историко-филологическому факультету Московского университета, но путь в него был закрыт ввиду того, что в реальном училище, которое я оканчивал, латынь не преподавалась, а без этого языка в университет не принимали. Решено было, что я подготовлюсь по-латыни дома и сдам экзамен экстерном, но это оказалось невыполнимым, так как занятий без латыни хватало. Идти в техническое я никак не хотел. Оставались Сельскохозяйственная академия, Коммерческий и Лазаревский институт. После долгих раздумий я все больше и больше склонялся к Лазаревскому институту, благо языки мне давались легко. Но в этом отношении дело еще терпело, а сейчас все внимание приходилось обращать на предстоящие экзамены. Когда наши в марте месяце перебрались в имение, я, как всегда, переселился к деду Носову, где жил и мой двоюродный брат Кирилл Енгалычев, находившийся в таком же положении, как и я. Весной, когда наступила экзаменационная пора, подготовка вдвоем пошла успешнее. О деревне пришлось забыть. Даже иное воскресенье приходилось сидеть в Москве за учебниками.