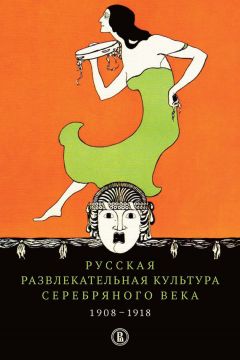Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Почти год, проведенный в Германии, оказался практически вне поля зрения исследователей, писавших о творчестве Гершензона[918]. Тому были свои причины. Прежде всего (о чем мы будем говорить далее) это связано с тем, что за тот год он практически ничего не писал, и опираться исследователь может только на его переписку, прежде всего на опубликованную — с Л. И. Шестовым и В. Ф. Ходасевичем. Во-вторых, он и жил этот год чрезвычайно замкнуто, не участвуя практически ни в каких предприятиях «русского Берлина». И вместе с тем невозможно не сказать, что данный период был чрезвычайно важен для биографии Гершензона, поскольку именно в это время решалась его дальнейшая судьба, и внимание к «германскому году» позволяет, как нам кажется, высветить некоторые принципиально важные варианты жизнеустроения не только для самого Гершензона, но и для ряда его современников. При этом необходимо подчеркнуть, что, кажется, ни для кого из знавших его не было ни малейшего сомнения, что любой поступок определялся для него внутренними убеждениями, а не сиюминутной выгодой, будь то выгода политическая или сугубо личная.
Казалось бы, в его биографии все складывалось в высшей степени благоприятно для окончательного прекращения каких бы то ни было отношений с советской Россией: почти родная страна (в молодости Гершензон учился в Германии и сохранил, как вспоминала дочь, «великолепную немецкую речь»[919]), довольно широкие возможности для печатания собственных трудов (в 1922–1923 годах в Берлине или с указанием «Москва — Берлин» вышло 5 его книг), толерантное отношение к публикациям в эмигрантских изданиях (дважды, хотя и не им самим, его статьи были напечатаны в «Современных записках»[920]), дружеское окружение и в Германии (кроме названных выше Белого, Ремизова и Лундберга — еще и Г. Л. Ловцкий, и В. Ф. Ходасевич, и С. Л. Франк, и Н. А. Бердяев, и Ф. А. Степун, и многие другие), вся семья не осталась в заложниках, а находится вместе. Однако Гершензон упорно осуществляет свою «утопию» — безвыездно живет в Баденвейлере, приезжая в Берлин только для того, чтобы устроить дела, и рвется в Россию.
Конечно, тому были и внешние препятствия. С одной стороны, безденежье, которое не могло не тяготить. С другой — домой тянулись дети («Мы с Сережей страстно хотели ехать домой, не мысля себе возможности остаться навечно за границей», — писала дочь[921]), да и сам Гершензон трезво оценивал перспективы их, т. е. детей, существования в Германии. Шестову он писал 18 апреля 1923: «Сыну 17 лет, он может за этот год кончить гимназию. Ежели оставаться здесь, где он может учиться? Значит, придется жить в Берлине, где климат и все условия жизни для меня ничуть не лучше московских; и русское учение в Берлине не лучше московского, а весною, если он и окончит, в немецкий университет его не примут, и в Московский, конечно, тоже»[922]. Наконец, весьма важны были проблемы со здоровьем, когда одни врачи решительно настаивали на том, что необходимо остаться, тогда как находились и другие, разрешавшие возвращение. Но, кажется, решающим обстоятельством оказалось все-таки сопоставление духовной жизни России и Европы, и выбор в итоге был сделан в пользу первой. И дело вовсе не в пресловутом гершензоновском «славянофильстве» («Какой же я славянофил? Я, как вы знаете, еврей», — говорил он сам), а в том традиционном для значительной части русских мыслителей убеждении, что духовно Европа если не погибла, то гибнет. И для чистоты такого эксперимента замыкание в «своем углу» и отказ от творчества были весьма показательны.
О первом Гершензон вспоминал: «Здесь, хоть мало что есть, но все существенное: горы и лес, вода, туман…»[923] И полувсерьез-полуиронически сообщал В. Ф. Ходасевичу: «Я чудовищно-много вырос за эти годы; теперь пересадил себя с открытого воздуха в комнату, чтобы некоторое время отдохнуть от роста; и вот, действительно, глупею»[924]. О втором Шестову еще 17 ноября: «Издатели пишут мне, просят статей, а я так же далек от писания статей, как от модных танцев»[925]. И 27 февраля 1923: «Я здесь ни строки не написал, даже бумаги никакой не покупал, кроме почтовой. Это от здоровья; как только поправлюсь, так тотчас хочется писать, и есть о чем»[926]. Несколько позднее, 21 марта, и Ходасевичу: «Я так отдыхал здесь от всего литературного, что с трудом верится, что когда-то писал, печатал. Может, оттого и не пишется. Но это ничего, даже полезно; я теперь на весь мир идей и систем смотрю, „как души смотрят с высоты на ими брошенное тело“»[927]. Снова Шестову 18 апреля: «Я здесь не написал, разумеется, ни одной строки; даже не представляю себе, как люди пишут литературное. Значит, еще не так поправился, потому что когда здоров, меня тотчас начинает тревожить какая-нибудь тема и хочется писать»[928]. Но вместе с тем он не переставал не только думать, но и жадно познавать то, что происходит вокруг.
Говоря «вокруг», мы должны иметь в виду, что это понятие для Гершензона включало два смысла. Прочитав «Преодоление самоочевидностей» Шестова, он писал автору: «…трехмерное пространство — иллюзия, но мы в нем живем, и наши органы познания суть органы познания трехмерного пространства; значит, кто действует или хотя бы следит за действиями, должен мыслить мир трехмерным. От этого я не могу отрешиться; но твоя заслуга, как Эйнштейна, та, что ты учишь видеть условность трехмерного мировоззрения. Есть великое освобождение в том, чтобы знать, что этот берег — не вся земля, что это именно берег, наш, человеческий берег, — а за ним есть безбрежное море, и по ту сторону его — иной, твой берег — четырехмерный зыбкий мир чуда. <…> Хуже всего то, что всякий сапожник тайно чувствует „4-е измерение“ — как единственную подлинную реальность, но на практике, из жадности, хватает только чувственно-воспринимаемое <…> иногда мне кажется: нет ли тут еще и второго чутья: может быть, люди в долгом опыте бессознательно установили, что наиболее правильный способ учитывать 4-е измерение — учитывать его не сознательно, не прямо, а как имманентное в материальной действительности (такова, напр., мысль Карлейля); может быть, потустороннее и нельзя брать в чистом виде (оно — огонь и разрушает живую ткань, или оно испаряется в отвлеченности и теряет власть над волею), а надо его брать только в мутных воплощениях, как душу любимой женщины любишь только через ее тело»[929]. Стало быть, и его собственное «вокруг» имело одновременно и три измерения, и четыре.
В «мире трех измерений» фиксация и имманентное сопоставление духовных состояний Европы и России (не только эмигрантской, но и России советской) отнюдь не носили характера их непременного противопоставления с отдаванием преимущества второй. Еще в самом начале своего пребывания он пишет Шестову: «Мне одно интересно: духовная жизнь Запада, какова она теперь. Очень хочется присмотреться»[930]. И дальше: «Среди пишущих немцев есть теперь очень интересные; точно проснулись и с удивлением смотрят вокруг себя. Такие же есть и во Франции. Я недавно в Москве прочитал кое-что из Вильдрака: совсем живой, и притом очень даровит, так что я раскрыл глаза»[931]; «В общем, немецкая литература теперь много интереснее русской. Я не встретил ни одного замечательного произведения, но прочитал много замечательных страниц»[932]; «Я с большим интересом читаю теперешних немецких мыслителей: есть много свежего и смелого — и, что меня подкупает, огромный фонд точных знаний <…> Мне жаль, что тебе не удалось познакомиться с нынешней французской литературой»[933]. И в параллель к этому: «…читаю в „Руле“ о берлинских русских. Философы наши и там водрузили знамя, привезенное из Москвы, — ты верно читал: открывают там религиозно-философские курсы, чтобы посредством лекций и семинаров перевести горизонтальное движение человечества в вертикальное — духовное; комики! Правда, я давно не читал ничего более комического, как манифест этих курсов, даже грустно стало: седые дети. А все оттого, что философствуют отвлеченно, не вспоминая о сих себе, о своей жизни и смерти»[934]; «Читаешь ли ты русские берлинские газеты? Какую пошлую и глупую деятельность развивают там Бердяев, Ильин, Франк и др. Недоставало только этого, чтобы еще более запутать и без того сбитую с толку эмигрантскую молодежь. <…> у нас в России метафизическая мысль (напр., у Бердяева) не „обременена“ никаким запасом знаний, — тем легче воспаряет»[935].
Недовольство современным состоянием философского осмысления судеб России, фиксируемым эмигрантской периодикой да и непосредственно вспоминавшимся Гершензоном по общению внутри России с самыми различными мыслителями, было существенной частью его мировосприятия. Довольно часто это расценивается современными наблюдателями как «большевизанство», однако, как кажется, корни его уходят в более далекое время. Уже издание «Вех» было для Гершензона одним из способов расставания с мифами (в данном случае — с мифами интеллигентского сознания). Из той же серии — и «Судьбы еврейского народа». Существенно, однако, подчеркнуть, что мифу в осмыслении Гершензона противопоставляется не низкая реальность и не бытовое мышление, а реальность мистическая, то самое «четвертое измерение», о котором он писал Шестову. Но оно ощущается непосредственно, без отрешения от всего окружающего. Кажется, именно эта сторона заставляла Гершензона с такой симпатией относиться к стихам Ходасевича, где связь высокого и низкого, быта и мистики описана как непосредственная данность, проявляющаяся в возможности каждую минуту «перешагнуть» из одного мира в другой.