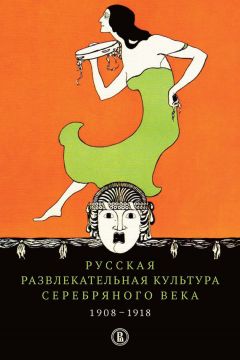Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Как кажется, это стихотворение стоит на той развилке, которая отчетлива в творчестве Нарбута 1921–1923 годов (при всей условности датировок). С одной стороны, он продолжает писать и публиковать стихи почти что агитационные (и не случайно выпустит в 1922 году в Харькове сборник, характерно названный «Советская земля», куда попали стихи с не менее характерными заглавиями «Большевик», «В эти дни», «Годовщина взятия Одессы», «Октябрь», «Первомайская пасха»), с другой — ищет путей к тому, чтобы современные темы преломить сквозь сложность отдельных образов и их ассоциативного развития, помножив это на изломанный стих и варварскую фонетику.
Если взглянуть на текст с позиции стиховеда, то довольно легко заметить, что Нарбут здесь снова вступает в область шестистопного ямба без цезуры — что уже было опробовано в ранней «Нежити». Однако существенным различием является то, сколько раз цезура все-таки встречается в стихотворениях. В «Нежити» на 44 стиха 12 случаев мужской цезуры, 5 — дактилической и один случай непонятно какой: если в стихе «Пищит у щеколды, пороги обметает» мы прочитаем слово «щеколды» с ударением на первом слоге, то получится цезура дактилическая, если на последнем — то мужская. Нормативное ударение здесь невозможно. Итого почти половина стихов «Нежити» (20 из 44) обладают цезурой. В «Людоедстве» на почти такое же количество строк (40) цезурой обладают всего 7, причем 3 из них — дактилической, которая ощущается значительно менее резко, чем мужская, а в двух случаях мужская цезура рассекает строку сразу после предлога, сводясь синтаксическим единством к минимально заметной и чисто формальной паузе.
Всего трижды в «Нежити» встречаются трехударные строки, создающие резкий эффект зияния. В «Людоедстве» (при меньшем количестве строк) — 7. Еще один неожиданный эффект получается, когда в стихе безударным остается 8-й (а иногда еще и 6-й) слог, зато соседствуют ударения на 10-м и 12-м, последнем (например, «Скуля, поводит скулами степная сечь» или «И дым накручивает канитель старушью»). В «Людоедстве» этот ритмический ход нагнетается (только в первой строфе 4 случая первого типа и один — второго), тогда как в «Нежити» он сравнительно редок (на все стихотворение 7 случаев первого варианта и ни одного — второго).
К сфере фонетики в «Людоедстве» относятся уже упомянутые нами зияния (интервалы между ударениями в 5 и более слогов): «Порожнее вываривает Запорожье», «И дым накручивает канитель старушью», «Колдунье до шатающихся по степи», «Волков, до перемигивающейся с хатой» и т. д.). Этот прием был Нарбутом опробован еще в «Нежити» («Окутанная испаряющейся кровию»), однако там это было скорее исключением, чем правилом. Также обращает на себя внимание резкая и словно неспровоцированная парономазия: «порожнее Запорожье», «роящуюся роя», «скуля… скулами», «дососано… барбоса» и т. д. Остальные фонетические приемы, как кажется, для Нарбута более или менее традиционны.
Что же касается лексики, то она, в противоречие с основными, бросающимися в глаза принципами поэзии Нарбута, здесь близка к нейтральной. Если во многих своих стихотворениях он не чуждается даже ненормативной лексики (как в отрывках из поэмы «Любовь») или нарочито сниженных словоупотреблений, то в «Людоедстве», судя по всему, его задача была иной: сказать о страшном такими словами, чтобы оно воспринималось не как запредельно нечеловеческое, а как вынужденное страшными условиями жизни. Отсюда и сквозные образы нити-канители-иголки, младенческого сердца-веретена. Смысл стихотворения возникает на соединении его заглавия, ужасных подробностей (данных своими наименее зловещими признаками), как бы случайных бытовых забот (котлы с их «обиженным чугуном» или топор, используемый как будто для обычного дела), ощущения полной покинутости в мире (глушь, хляби, бездорожье, волки и пр.) — с нависающими над степью звездами, невинной резедой, со всем тем, что сформулировано в строках:
Несчастное мое ты, вдовье Запорожье,
Как снег, как холст, чиста, бела твоя судьба.
Синтаксис стихотворения намеренно запутан, обильны никак не семантизированные enjambements, что в общем уже соответствует построению поздней (после 1923 года) поэзии Нарбута. Вышедший не ранее августа 1922 года сборник стихов «Александра Павловна» еще довольно явственно представляет манеру переходную, не слишком определившуюся. Как кажется, типологически наиболее близко «Людоедство» к стихотворению «Белье», включенному в неизданный сборник «Казненный Серафим»[899]. И дело не только в частичных словесных повторениях (сохнущая, растравляющая или запекающаяся соль, канитель как нить), но и в самом представлении поэтической идеи стихотворения, которую в случае с «Бельем» Нарбуту понадобилось специально комментировать в ответ на упреки в «непонятности»[900].
Наконец, трудно не заметить параллелей «Людоедства» с «Умывался ночью на дворе…» О. Мандельштама, особенно с первой его строфой[901]. Звезды, соль, топор повторяются у обоих поэтов буквально, однако вместо мандельштамовской бочки со студеной водой у Нарбута — зловещие кипящие котлы и чугуны, вместо сияющей звездами тверди — вызвезживающиеся хляби. Напомним, что стихотворение Мандельштама предполагалось к печати в харьковском журнале «Грядущий мир», но было отвергнуто по существенной причине: «Секретарь ЦК Мануильский потребовал на просмотр материал в гранках и разразился по поводу стихов, где встречаются: „Кому жестоких звезд соленые приказы“, „Лунный луч, как соль на топоре“. — Какая соль? При чем здесь топор? Ничего не понимаю! Что Ленин скажет? Предложено изъять…»[902] Известно, что отношения Мандельштама и Нарбута не были идиллическими, особенно в сфере творчества, поэтому задание «переписать» мандельштамовское стихотворение, во-первых, с точки зрения «натурализмо-реализма»[903], а во-вторых — со внесением открытых для обсуждения в советских изданиях современных социальных тем вполне могло казаться Нарбуту заманчивой задачей. Конечно, у нас нет оснований настаивать на этом впрямую, но гипотетически говорить, пожалуй, возможно. Если мы примем эту гипотезу, то она способна объяснить, почему «Людоедство» не попало в продуманные Нарбутом, хотя и не изданные, сборники и циклы стихов: спор с Мандельштамом вне конкретных условий Харькова 1922 года никак уже не мог казаться актуальным.
Впрочем, для большевика Нарбута нежелание печатать стихотворение в более доступных для широкого читателя источниках или включать его в поздние рукописные книги могло быть и вовсе с литературой не связанным. Голод 1921 года был одной из самых черных страниц в ранней истории большевизма, поэтому любая форма пропаганды (а для партийных инстанций поэзия также относилась к ней) должна была быть предельно выверенной: «…постигшее нас бедствие коренится в прошлом и в попытках реакционных сил вернуть это прошлое»[904]. Ужасающие же подробности, а в особенности рассказы о каннибализме на протяжении двадцатых годов встречались все реже и реже. Сама тема стихотворения делала его сомнительным с политической точки зрения, потому было естественным, что оно так и осталось затерянным в неведомом харьковском сборнике 1922 года.
Михаил Гершензон между Россией и эмиграцией[*]
Михаила Осиповича Гершензона читателям нет необходимости представлять. Русская культура его никогда не забывала, хотя могли забывать власти предержащие. Не менее важна его личность и для культуры еврейской. Здесь, на скрещении, и находится тот нерв его творчества, который он сам осознавал и отстаивал. Однако взгляд на эти проблемы может быть различен: и чисто философский, и социальный, и религиозный. Мы же предлагаем увидеть эту проблему с точки зрения, если так можно выразиться, пространственной. Из воспоминаний Ходасевича о Гершензоне мы знаем, что пространственность нередко перерастала для него во внутреннюю проблему, пусть даже им самим не осознаваемую, но видимую другими. Попробуем и мы стать на точку зрения этих других.
Собственно говоря, о важности проблемы пространства для Гершензона заговорила В. Ю. Проскурина, когда обсуждала «Переписку из двух углов». Она проницательно обратила внимание на то, что в отношении к пространству своего пребывания, как и во многом другом, Иванов и Гершензон противоположны: «Иванов сознательно делал акцент на символике квадрата совместного проживания. <…> Семантика квадрата и противопоставленного ему круга, так привлекавшая древних греков, а потом и средневековых мистиков, служила символом соединения антиномичных начал…» и так далее[906]. «Вместо символического квадрата, который Иванов с легкостью „округлял“, Гершензон предпочитает оперировать понятием „комната“, которая — помимо своего символического значения — всегда имела реальный коррелят»[907] — и тоже обрываем цитату.