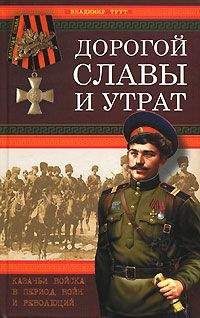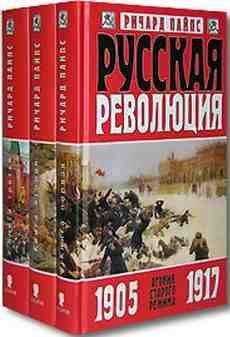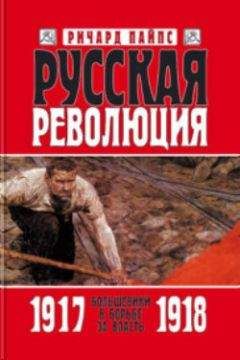Ольга Форш - Одеты камнем
Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.
"Что ему надо здесь?" - подивился я, и мне вдруг, стало страшно.
Мосеич подошел к домику, где сидели молоденькие голубки, вытащил одного, свернул ему шею, другому и третьему. Лицо его было отвратительно, как у колдуна из "Страшной мести". Как у того, нос Мосеича показался мне больше обычного. Из плотоядно приоткрытого рта глядел желтый клык. Длинные, не по росту, руки с костлявыми пальцами вдруг мертвой хваткой зажали трепетной птице клюв и головку. Как штопором в пробке, он крутнул сизой шейкой раз, два; хрустнули позвонки. Старые голуби вздымали крыльями и курлыкали с жалобою несказанного...
Негодование мое было так велико, что я было двинулся схватить негодяя за шиворот, как внезапно он сам, подхватив мертвых голубей, юркнул в дальний угол. По лестнице взошли Вера и Марфа.
- Ахти, беда! - воскликнула Марфа и кинулась к дверце голубиного домика, которую Мосеич не поспел захлопнуть. - Опять трех голубочков унес, дьявол горбатый!
- Кого ты бранишь? - спросила Вера.
- Карла Мосеич голубкам свернет шейку да съест. "Вкусней, говорит, чем цыплячье!" Хуже этого дьявола никого нет на свете, барышня; ведь это он барина подучает...
- Низкий человек, - вспыхнула Вера. - Но оставим его, нам с тобой время дорого; брось голубей, сядь ко мне.
При всем моем волнении я не мог не оценить и не запомнить навсегда восхитительной картины, которую увидел. Как в Рембрандтовом освещении, прорезывая окружающую мглистую тьму, через слуховое окошечко на головы Веры и Марфы упадал золотой солнечный луч. Тонкое лицо Веры, охваченное внутренним возбуждением, как ангел Страшного суда, и сейчас сияет предо мной своими непреклонными взорами, а девичья небольшая рука ее легко лежит на золотой волне густых и пышных волос Марфы, русской красавицы в белой шитой рубахе и излюбленном в наших местах - синем кубовом сарафане. Они условились бежать нынешней ночью. Петр, один из старших конюхов, должен был выкрасть пару вороных, запрячь шарабан и ждать ночью за околицей. Марфа под вечер, как старый Лагутин любил, должна была принести ему в спальню после ужина графинчик вина, куда будет подсыпан сонный порошок, чтоб избежать ей ночного плясанья.
Вера была немногоречива и покойна. Весь план у нее был твердо обдуман.
- А дальше, барышня милая, куда денемся?
- Дальше в Лесное, под Петербург; там нас укроют, пока не приедет Линученко. Сейчас мешкать нечего. Выпускай голубей и беги ко мне в комнату. Только б вырваться на свободу. Не пропадем...
- За вами, барышня, в огонь и воду! - сказала восторженно Марфа.
Вера встала и пошла к лесенке. Когда она- нагнулась, чтоб сойти на ступеньку, ее легкий газовый шарф скользнул мне по лицу. За нею спустилась и Марфа, а освобожденные голуби, оттолкнувшись красными лапками от деревянных домиков, взвились над березами.
Я сидел неподвижно, потрясенный всем слышанным. Какую силу над Верой имел Михаил!..
Два месяца тому назад он - незнакомый ей человек, сейчас заставляет порвать навеки со старым отцом, с родным домом и бежать с челядью путем вероломных обманов. А я, друг ее нежного детства, как от первого ветерка пух одуванчика, вылетел вон из ее памяти.
- A la bonne heure [В добрый час (фр.)], - сказал вдруг голос Мо-сеича, - вот нежданная дичь! - И с любезностью, какую позволяло его безобразие, прибавил: - Не спрашиваю вас, сударь, о том, как вы попали сюда. Надеюсь, мы с вами единомышленники по поводу заговора юных дев. Все, вплоть до сонного порошка, как в мелодраме, - невинный результат французской библиотеки отца! Мы, для благополучия героинь, разумеется, должны помешать им разыграть пьесу в жизни. Что, впрочем, будет тоже "по пьесе". Извините, мой галльский вкус к остроумию не покидает меня пи при каких обстоятельствах жизни.
Мне был отвратителен сей Квазимодо, но я должен был с ним согласиться в желании помешать ночному побегу. Мысль, что Вера совсем уйдет к Михаилу, мне темнила сознание, лишала рыцарских чувств.
- Сейчас ни звука, мой друг, - зашептал мне горбун, - положитесь во всем на меня. Пусть злой похититель уедет в надежде свидания, а героиня со златокудрой наперсницей приготовит все к бегству из отчего дома. Пусть попробуют; мы их у околицы хлоп, - и в мышеловку мышат. Мы их допустим, mon ami [Мой друг (фр.)], на шарабанчик к Петру, с узелочками, с сувенирами; а чуть кони с места, верная стража - наперерез с фонарями и гиканьем. Можно ракету-дру-гую пустить, от помолвки остались! Хе, хе... Невеста, разумеется, в обморок, ее в девичью светлицу на замок. Петра, по обычаю здешних мест, на конюшню, а рыжую Марфу... - лицо Мосеича стало как у мерзкого павиана, - разверстка по чинам! А утешителем при героине опять вы, как было раньше, - один.
- Негодяй! - сказал я, дрожа от бешенства. - Я не участник в издевательстве.
- Это вы? - Мосеич попятился к слуховому окну и на всякий случай первый спустил ноги наружу, на перекладину лестницы. - Вы, сударь, участник решительно во всем, от вас первый толчок к семейной драме. Вы предали Бейдемана, раздавив его "Ко-ло-ко-лом". Не правда ли, для Китая то был бы недурной каламбур?
Я кинулся к лестнице и крикнул ему:
- Что вы сделали с журналом?
- Ничего плохого, я передал его в сохранней-шую из библиотек, в отцовские гневные руки Эраста Петровича.
- Куда вы меня вовлекли!.. - вырвалось у меня.
- Полно, mon cher [Мой дорогой (фр.)], вы не малолетний. - Мосеич уже не скрывал презрения. - Но, по русской пословице, вы хотите, чтоб у вас рыльце не было в пуху. А я, сударь, и для своего стола имею мужество собственноручно свертывать голубкам шеи. Что же, еще не поздно, - сказал этот дьявол, и опять он сказал правду, - идите, предупредите Веру Эрастовну!
Он не сомневался в моей низости.
Когда я сошел вниз по чердачной лесенке, яркий день ослепил меня. Серое небо сменила сплошная синяя эмаль. Я побрел к усадьбе. Дойдя до скамьи, откуда издали было видно поросшее диким виноградом окно девичьей спальни Веры, я свалился без сил, Всю ночь я не смыкал глаз. Пережитые волнения были слишком сильны. Если б сейчас Михаил оказался рядом и спросил меня, что со мной, я, не думая о последствиях, рассказал бы ему решительно все.
За кустом в ручье щелкали утки, ловя червяков; стадо коров, тяжело топая, прошло к водопою. Слабо звякнули бубенцы, к крыльцу подкатила тройка. Я сообразил, что это для Михаила, который, попрощавшись со всеми еще с вечера, торопился попасть в город к поезду, чтобы в последний день отпуска повидать еще свою старушку мать в Лесном.
Вдруг из плотных кустов буксуса, росших прямо под окном Веры, как из-под земли, показался Михаил. Он был в шинели и фуражке. Сорванным прутом он легко постучал в ставень. Конечно, его стука ждали: окно распахнулось, и Вера, в розовом кисейном капоте, сияющая, ликуя в ответ солнцу на чистом, без облака, небе, протянула ему свои тонкие девичьи руки. Михаил ловко прыгнул на подоконник. Они обнялись.
Решительно судьба надо мной издевалась: в том, что ночью я лишь угадывал по слуху, сейчас должен фыл воочию убедиться.
Вера что-то долго шептала Михаилу - верно, рассказывала про побег. Он торопил ее, оглядываясь по сторонам; он боялся, что их заметят, раза два глянул в моем направлении. Я был от них скрыт густой беседкой сирени, но мне-то они были видны сквозь небольшой просвет.
Они прощались так весело и были полны таких непреложных надежд, что я не заметил и тени боли, Этой неизбежной спутницы любви при малейшей раз-дуке.
Он спрыгнул с окна, обернулся. Она ему махнула оставленной им веткой и долго смотрела на дорогу, пока не улегся последний столб пыли, взметенный умчавшейся тройкой. Не отрывая глаз от нее, я видел, как она все с той же победной, ликующей улыбкой ушла в глубь своей комнаты. Если б она знала, что в это сияющее утро она видела Михаила в последний раз... Впрочем, нет: она увидала его еще однажды. Но это уже был не он.
Мой отпуск кончался через несколько дней, но я не мог выдержать так долго пытки. В доме было напряженно, как перед грозой. Старик Лагутин сказался больным, и Мосеич от него не выходил; очевидно, обдумывали вместе ловушку. Вера появлялась, как лунатик, видимо отсутствуя где-то чувствами, и все больше сидела запершись с Марфой; как потом оказалось - отбирала все ценное для побега. Улучив минуту, я подошел к Вере и сказал;
- Прощайте! Я ухожу на охоту, и, чего доброго, завтра не удастся попрощаться. Вы спите долго, а мне ехать зарей, как сегодня Михаилу.
Я нарочно подчеркнул последнюю фразу, я с вызовом смотрел на нее, я внутренно молил ее обеспокоиться моим возбуждением, задать вопросы, потребовать ответа. Кто знает, хоть минуту обрати она на меня лично внимание, я, может быть, ей рассказал бы про Мосеича... Я бы не знал удержу в благородстве, я бы создал новый план бегства, я сам бы помог его выполнить! Кто же знает всю глубину низости и всю высоту подвига самоотвержения собственной таинственной природы?