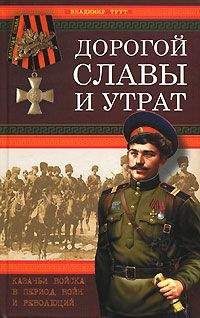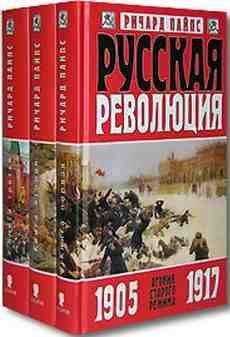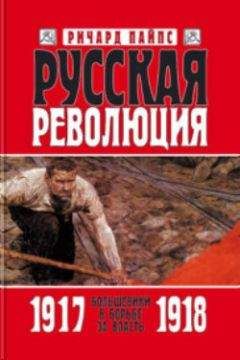Ольга Форш - Одеты камнем
Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудной ряской.
Месть, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.
Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.
Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.
Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!
Ведь мы все, Русанины, - однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.
- Дорогая моя! - сказал Михаил с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него. - Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?
И в ответ ее нежный голос:
- Ты можешь еще спрашивать? На минуту затихли: они целовались.
У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.
- Но я тебе должен признаться, - голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток, - я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не свершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?
- Мне твое прошлое-нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего, - сказала с достоинством Вера.
- Дорогая, но ведь, кроме лишений, со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.
Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами;
- С тобой, мой милый, - на плаху!
Опять убийственное молчание, опять поцелуи. Потом, смеясь как ребенок, она сказала:
- Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомянул вас обоих: "Твои кавалеры, - сказал он многозначительно, - не будут столь спокойны, как ты". На что я ответила: "Тем хуже для них! Я ложных надежд никому не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!" Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.
Михаил хохотал.
- Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?
- Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как мы решили, то ждн письма, я пришлю с Сержем - он верный.
- Да, пороху он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный, - сказал снисходительно Михаил.
Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение - недалекого парня!
Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особливо торжественен - как французский маршал двора.
- Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестой князя Нельского, - сказал он.
Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...
Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.
ГЛАВА V
ГОЛУБИНЫЕ ШЕЙКИ
Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного "Колокола"; верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.
Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для меня - как гробовая змея древнему князю Олегу; выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильней по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.
- Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения, - сказал он по-французски, осклабляя свой большой рот,
- И были правы, мой друг, мсье Дельмас, - отвечал я, как обычно называя его по фамилии, за что пользовался неизменною его дружбою. Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.
- Подобно вашему другу Бейдеману?
- Я его не назвал.
- Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас, - сказал Мосеич, - дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бейдеман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает- судьба неопытной жертвы? - прибавил карлик с коварностью.
- Я погибну, но не дам ее погубить! - воскликнул я вне себя.
- Так дайте мне журнал.
Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.
Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить; едва я в гневе дал Мо-сеичу "Колокол", как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные глухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...
Мне все чудилось почему-то Лобное место на московской площади и палач, обмотавший вокруг кулака русые Верины косы. Ее белая шейка на плахе, сверканье топора... Я галлюцинировал, я был болен. И вдруг мозг с точностью записи восстановил разговор, слышанный ночью в беседке: дальнейшее в судьбе Веры будет связано с Марфой и Петром, - отсюда обещанный Верою визит в голубятню...
Едва вышедшее еще слабое солнце чуть позлатило верхушки березовых рощ и березки затрепетали от привета первым лучам, я, как тать, пробрался на голубятню и скрылся за разной рухлядью, в беспорядке сваленной в кучу.
Еще-раз: не буду лгать вовсе. Мне не было стыдно, хоть я и знал, что делаю низкое дело. Но в тот миг я не был корыстен. О своем счастье я больше не думал. Мне надо было спасти Веру, обольщенную мятежной волей, быть может, больного человека. Михаил говорил мне, что у них в роду есть сумасшедшие. Эта его устремленность в одну точку, этот огонь, всегда его сжигавший, могли быть и началом болезни. Подслушанное мною признание, что он едва не совершил убийства любимой женщины, привело меня в ужас. Слова же его Вере, что в союзе с ним ей придется делить не только Сибирь, но и виселицу, обличали гордыню бездушного злодея. Слова эти жгли мое сердце: если Вера за ним пойдет, на полдороге ведь она не остановится! А помыслить ее в тюрьме, в ссылке и лишениях - я не мог. Я должен спасти ее. У нее к Михаилу не любовь - злое наваждение. К тому же, как верноподданный, зная о вредных умыслах юнкера, которому скоро, как и мне, предстояло облечься в офицерский мундир, я чувствовал себя обязанным их пресечь.
Кто знает, как далеко могла посягнуть его злая воля? Ведь говорил же он не раз: "Если имеющий высшую власть от нее не откажется, можно его к отказу принудить".
Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.