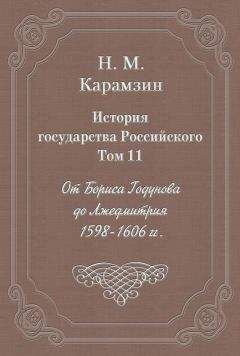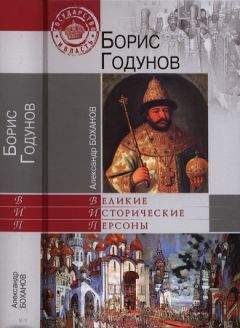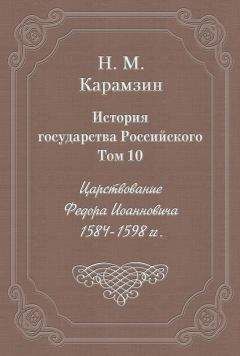Дмитрий Балашов - Марфа-посадница
- Но как же без узды церковной все же? Без икон, без обрядов, постов, без исповеди и покаяния?
- Пост блюди! Земле и Богу исповедуйся! В духе, а не в букве, в духе!
- Я вот что спрошу! - подал голос из угла доныне молчавший человек в сером одеянии, видно, тоже из духовных, с одутловатым темным лицом. - Духовную суть воспринять простецы могут ли? Стригольников еретицами назвали не одни церковнослужители! Карпа проповедника сами же простецы в воду сбросили. Вот Козьма рассказывал давеча, - отнесся он в сторону клочкастого философа, - он другу своему пытался объяснить, что рай и ад духовно понимать надо, а тот: нет, пусть у ворога моего тело пожарится в геенне огненной! Он вещно представляет себе жизнь вечную. И церковь ему явленно живописует, в вещном образе, и страшный суд, и геенну, и райскую рать. Очами зримо и уму вразумительно. Сильна церковь, материальное, вещественное, неизменное дает человеку! А духовное, невещественное, что земными очами невидимо и перстами неосязаемо, - кто поймет? Лишь избранные, а они редки.
- Много было званых, да мало избранных!
- Я не о том! А прочие как? Как простецы, им же имя легион, как они узрят славу божию? А самому спасаться, когда брат твой гибнет, тоже грех, и грех непростимый! Апостолы денно и нощно ходили, уча, а не сами себе спасения искали.
Опять завязался спор, вызвавший у Григория Тучина смутное беспокойство чем-то, очень схожим с давнишними речами у Борецких. Ну да! Там решали судьбу Новгорода без народа, а здесь доказывают, что народ не может понять главной сути жизни, пути спасения. «А как я сам думаю?» - И признался в душе, что не думал никак: привык, что его волю исполняют. И это тоже была совсем новая и тревожная мысль.
Григорий покинул собрание духовных братьев, так и не вмешавшись в разговор, когда споры утихли и началось чтение «Звездозакония», книги, которую он уже знал из прежних бесед.
Назарий вышел вместе с ним. Некоторое время шли молча, стараясь не оступиться в темноте. Потом Назарий взорвался:
- Непонятно мне все это! Я когда был за рубежом, в Риге, увидал одно: что ни говорят, что ни делают, а думают преже о себе, о своем народе. У немцев у всех так! Меж собой грызутце, а уж перед чужими немец немца не выдаст. А у нас все врозь! Князь одно, бояра новгородские другое, да и меж собой не сговорят! Черный люд посторонь, церковници - особно от всех. Единство нужно! Еще Нестор писал о словенском языке, един суть, и все мы - одного рода. А у этих так выходит, что вроде и ни к чему родина, народ… Не понимаю!
- В летописании сказано, - возразил Тучин, - что новгородцы суть племени варяжска, от Рюрика…
- А язык словенск! И вера своя, у нас однояко, у латин другояко. А у них, у этих философов, нет разницы никакой, и то и это отрицают!
- Но в том, что ты говоришь, тоже нет разницы между Новгородом и Москвой! - спокойно возразил Тучин, а Назарий осекся и вроде даже вздрогнул - не видать было в ночной темноте.
Григорий не без удивления слушал подвойского. Человеку знатному проще быть равным с простолюдином, чем с тем, кто ниже тебя должностью. Встречая Назария по делам посадничьим, он не мог бы, да и не думал заговорить с ним о чем-то, кроме приказных дел. Но тут их уравняло общее участие в беседе духовных братьев, и Тучин вдруг с удивлением увидал, что этот исполнитель воли посадничьего Совета и сам мыслит, по-своему, горячо и сильно.
- Ну, прощай, боярин! - вдруг оборвал Назарий свою речь и круто поворотил в межулок.
- Прощай! - отозвался Тучин без обиды на подвойского.
Очутившись, наконец, один, он поглядел в вышину. Месяц был на ущербе, и небо, все вышитое большими мерцающими звездами, медленно поворачивалось над головою, далекое и безмерное, раздвинутое до пределов вечности. Григорий улыбнулся невесть чему и пошел домой. Сторожа окликала его, даже задержала у въезда на Великий мост, но, узнавая великого боярина, каждый раз почтительно пропускала, и Григорий почти не обращал на нее внимания, так привычно и естественно было ему знать свое превосходство над теми, кого могли и остановить, и обругать, и даже бросить до утра под замок, в холодную, чтоб не шлялся бесперечь.
Он шел, вдыхая свежий ночной воздух, под высокими мерцающими звездами и впоминал весь этот большой день, которому, быть может, суждено будет перевернуть всю судьбу Новгорода: решения; споры духовных братьев; зовущие глаза Олены Борецкой под слишком густыми бровями, родившие в нем сейчас мимолетную смутную тоску… Шел и уже не думал ни о чем, целиком отдавшись торжественному спокойствию ночи.
Глава 5
Во всех его хлопотах Зосиму все неотвязнее искушала мысль, которую он сперва отгонял, как назойливого овода, но она все возвращалась, росла, перерастала в желание, жажду, и уже он тщился отнюдь не отогнать соблазн, а найти время и возможность последовать ему. Мысль эта была - посетить обитель святой Троицы, что на Клопске.
Трудно сказать, тогда ли еще зародилось у Зосимы это желание, когда словоохотливый онтоновский келарь смолкал, чуть только речь ненароком касалась рекомой обители, позже ли, при виде того странного глухого раздражения или настороженности, кои возникали у любого, только лишь слышавшего пресловутое имя.
Монастырь был основан московитами и жил главным образом на пожертвования великих царей. Каменный храм выстроил опальный дядя покойного Василия Васильевича в бытность свою в Новгороде. Не скудела десница московских государей и в последующие годы. Полвека назад игумена Клопского монастыря, избранного по жребию архиепископом Великого Новгорода, силой заставили оставить архиепископию и удалили назад, в свой монастырь. Обитель святой Троицы была бедна и вечно терпела притеснения великих бояр новгородских, владельцев окрестной земли. Но всего этого все-таки не хватало для объяснения толикой злобы на монастырь. А вместе с тем Зосима чуял, что там, в Клопской обители, он, возможно, найдет ответ на все недомолвки и умолчания, от коих ближайшим образом могла зависеть судьба основанного им монастыря. И когда архимандрит Феодосий передал Зосиме, что приема у владыки необходимо обождать два или даже три дня, будущий настоятель Соловецкой обители решился.
Он отправился, никому ничего не сказав. Даниле, который перевез учителя через Волхов, Зосима велел возвращаться одному. Данило понял, что наставник ищет молитвенного уединения, что часто бывало и на Соловецких островах, где угодник удалялся в лес или даже на соседний пустынный остров, оставаясь там без пищи и пития, даже и до нескольких дней. Данило так и сообщил в монастыре, на что, как раз, рассчитывал Зосима, не хотевший брать греха на душу лживыми объяснениями своей отлучки.
Не привлекая ничьего внимания - мало ли ходит по дорогам рясоносных странников, - размеренным дорожным шагом миновал он Детинец и, выйдя из Людиных ворот, поспешил по Юрьевской дороге. Не доходя Аркажа монастыря, Зосима свернул направо и, уже в сумерках, подходил к Ракоме, древнему княжому сельцу, а ныне селу Ивана Лошинского, брата Марфы Ивановны Борецкой. Не останавливаясь, Зосима миновал гостеприимные, но опасные для него сейчас ворота боярского терема и, озревшись, направил стопы свои к югу, вдоль Веряжи, стараясь, елико возможно, не спрашивать дорогу. Уже светало, когда он, истомленный, с разбитыми в кровь ногами, подходил к невысокой бревенчатой ограде Клопского монастырька.
Как ни уставши был Зосима, но и он невольно подивился необычайному для богатой обители толплению народа у монастырских ворот в столь ранний час. Народ все был простой: какие-то монахи и монашки, что сновали взад и вперед, нищие, калики, мужики и бабы, странники и странницы, с холщовыми дорожными торбами за плечами, в разбитой обуви, иные в лаптях или босиком. И хоть все они набожно крестились на главы двух церквей, каменной и древяной, выглядывавших из-за ограды монастыря, чуялось здесь не простое толпление верующих, а кем-то направленное и для чего-то сошедшееся сюда сонмище единомысленных.
Проникнув под пытливыми взглядами монаха-привратника за ворота обители, Зосима, отказавшийся сообщить, кто он и откуда, очень долго прождал игумена, так что уже стал сомневаться, примут ли его, и досадовал на свою чрезмерную осторожность. Каменный Троицкий храм обители был невелик и тесен. Украшали его лишь несколько икон искусного письма, среди которых выделялся образ Троицы, писанный, как сообщил Зосиме монах, навязавшийся ему в провожатые, самим Андреем Рублевым, опочившим в бозе старцем Андрониева монастыря. Имя великого мастера Зосима только слышал раньше - все здесь было чужое, московское - и неловко засмотрелся на непривычную бегучую, легкую прорись иконы, нарочитую, будто и впрямь небесную чистоту, усугубленную голубизною одеяния, на задумчиво-скорбные лики ангелов, столь непохожих на суровые, плотного, яркого письма изображения новгородских икон. Было в этой иконе нечто, что обезоруживало, лишало сил, был соблазн некий. А монах назойливо зудел над ухом, поясняя, что такожде, мол, как Бог нерасторжим, един и троичен, достоит быти едину государству московскому под рукою великого князя… Спасаясь от речистого брата, Зосима вышел во двор к кельям, что стояли кружком, почти упираясь в ограду, осененные немногими соснами. Провожатый и тут не оставил угодника, вызвавшись показать келью блаженного Михаила. Наконец подошел второй брат, пригласивший Зосиму в настоятельский покой.