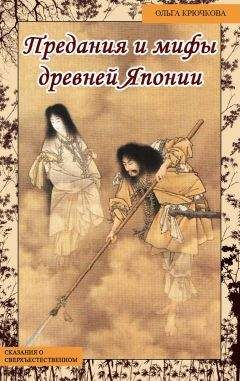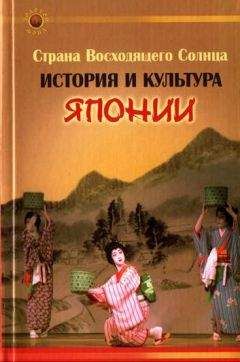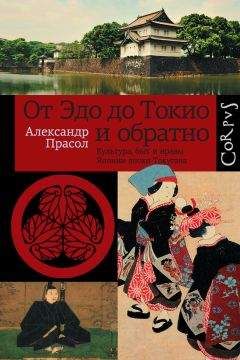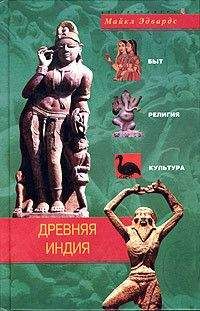Александр Мещеряков - Политическая культура древней Японии
Судя по всему, в сознании правящей элиты в VII–VIII вв. Ёсино ассоциировалось с местопребыванием бессмертных даосских мудрецов, а само нахождение в горах Ёсино было призвано восполнить недостаток сакральной энергетики и жизненной силы. Ёсино в стихах «Кайфу:со:» выступает идеальным местом обитания идеального императора, т. е. является элементом официальной идеологии. Увлечение даосскими идеалами в среде придворных было особенно велико в период Нара. Впоследствии мы наблюдаем умаление даосского элемента в официальной идеологии. Вместе с тем следует помнить, что разработанная в «Кайфу:со:» система образов приобретает впоследствии эстетические коннотации, и прочно входит в ту образность, которая эксплуатировалась японской литературой (в особенности японоязычной поэзией). В связи с этим дешифровка образности стихотворений «Кайфу:со:», которые связаны с Ёсино, имеет большое значение для понимания общего модуса японской культуры.
В японоязычной поэзии вака Ёсино (река Ёсино — Ёсиногава, горы Ёсино — Ёсинояма) является мэйсё (букв. «знаменитое место»), т. е. таким географическим названием, которое наиболее часто упоминается в японской поэзии. В антологии «Манъё:сю» с Ёсино связано порядка 70 стихотворений[218]. В другой поэтической антологии — «Кокинвакасю:» («Собрание старых и новых японских песен», 905–920) — 24 стихотворения[219] (из 1111, составляющих антологию). Одно из этих стихотворений явно свидетельствует о существующей в это время соотнесенности между Ёсино и Китаем. Это стихотворение № 1049, принадлежащее Фудзивара-но Токихира (871–909):
Морокоси-но // Ёсино-но яма ни // комору томо // окурэн то омоу // варэ наранаку ни (В подобных Китаю // Горах Ёсино // Хоть и скрылась, // Что не последую за тобой //Не думай)[220].
Роман XII века «Торикаэбая моногатари» помещает в Ёсино опального принца, вернувшегося из Китая, где он провел несколько лет и знаком со всеми аспектами «китайской учености»[221]. Самым ярким историческим примером восприятия Ёсино идеальным местоположением императора является расположение там южного императорского двора в период Намбокутё (Период южного и северного дворов, 1318–1392)[222]. Что касается «Кайфу:со:», то из 116 сохранившихся стихотворений этого собрания 16 стихотворений (т. е. около 14 процентов) одиннадцати авторов написаны по поводу поездок в Ёсино (№№ 31, 32, 45, 46, 47, 48, 72, 73, 80, 83, 92, 98, 99, 100, 102, 115).
Антология «Кайфу:со:» была составлена в 751 году. Это было время активного заимствования из Китая самых различных идей и политических институтов. Однако необходимо помнить, что именно местные традиции составляли тот мощный субстрат, на который наложились китайские культуроформы. В результате этой «прививки» и была сформирована японская культура, в которую естественным образом вошла китайская образность (в самой широкой трактовке этого понятия).
В связи с этим обращение к истокам этого синтеза представляет собой значительный интерес. В нашем случае мы имеем дело прежде всего с «литературной реальностью». Это понятие требует кавычек, поскольку «Кайфу:со:» (как и большинство источников этого времени) представляет собой в сущности «панкультурную реальность», которая имеет отношение не только к литературе, но и к политике, философии, религии и т. д. В частности, как было показано А. Н. Мещеряковым, сам выбор языка поэтического текста был отражением сложных политико-социальных процессов[223].
В «Кайфу:со:» первоначально входило 120 стихотворений 64 поэтов (четыре стихотворения утрачены, так что сейчас в антологию входят 116 стихотворений). Стихотворения располагаются в хронологическом порядке. Временной охват памятника — около столетия, со второй половины VII до середины VIII века. Все стихотворения памятника — авторские, однако имя составителя антологии неизвестно. Авторы стихотворений — государь Момму (пр. 697–707), принцы, представители высшей аристократии, чиновники, монахи.
Все мы являемся пленниками тех предрассудков, которые сложились в науке. Увлечение европейцев японоязычной поэзией вака, смещение культурных акцентов внутри самой японской традиции привело к тому, что антология «Манъё:сю:» стала считаться первой поэтической антологией Японии. Однако на самом деле она была составлена несколько позже «Кайфу:со:». По своему составу — числу авторов и стихотворений — этот памятник во много раз превосходит «Кайфу:со:» (порядка 4,5 тысяч стихотворений, многие анонимные, более 500 авторов), и хотя письменных доказательств того, что эта антология была составлена как ответ на «Кайфу:со:» нет, однако политическая ситуация в стране, а также именной состав участников антологий (преобладание членов рода Фудзивара в «Кайфу:со» и рода Оотомо в «Манъё:сю:») позволяет видеть в составлении этих памятников своеобразное соревнование — как культурно-языковое, так и политическое[224]. Эта «соревновательность» объясняется, в частности, тем, что японцами была воспринята конфуцианская идея о сложении стихов, как о деле государственном, ибо стихи — это квинтэссенция космической (а значит, и государственной) гармонии и ритуальное средство для ее достижения. В борьбе за право быть «государственной поэзией» победа стихосложения на японском языке относится лишь к X веку, когда была составлена первая «императорская» (санкционированная императорским указом[225]), антология стихов вака — «Кокинвакасю:». До этого времени, в VIII и в IX веках, «государственной» поэзией, пишущейся по повелению императора, была поэзия на китайском языке (японоязычная же поэзия оставалась на периферии политико-литературного процесса). После «Кайфу:со:» был создан еще целый ряд антологий китайской поэзии (канси), которые тоже можно назвать «императорскими»[226].
У поэзии на китайском и на японском языках в это время наблюдается немало точек соприкосновения. Поэзия канси естественным образом включает в себя реалии окружающего «японского» мира, местные легенды, имена, топонимы. Поэзия вака, в свою очередь, включает китайские мотивы и образы, некоторые из которых уйдут из нее в более позднее время, а другие — станут составной частью японской поэзии. Реальный билингвизм представителей тогдашней политической элиты находил отражение в том, что они сочиняли как на китайском языке, так и на японском. Одной из сквозных тем тогдашней поэзии стало Ёсино.
Эта местность начала осваиваться довольно рано, о чем свидетельствуют упоминания Ёсино в относящихся к ранней истории частях «Кодзики» («Записи о делах древности», 712) и «Нихон секи» («Анналы Японии», 720). Так, Ёсино упоминается во втором свитке «Кодзики», в части, относящейся к первому мифическому государю — государю Дзимму. И в «Кодзики», и в «Нихон секи» Ёсино упоминается в разделах, описывающих события, относящиеся ко времени правления государя О:дзин (пр. 270–310).
Нижеприводимое сообщение «Нихон сёки», вероятно, является одним из ранних описаний Ёсино:
«Зимою 19-го года, в день новолуния Цутиноэ-но ину 10-го месяца, государь соизволил отправиться в Ёсино. Тогда к нему пришли люди [из племени] кунису. Они поднесли государю густого рисового вина и так сказали в песне:
В зарослях дубов
Сделали мы поперечную ступу,
Поперечную ступу.
Великое рисовое вино, там бродившее,
Отведай в охотку,
Отец наш! —
Так спели. Допели, стали бить себя по губам, смотрели в небо и смеялись. И теперь, когда кунису приходят ко двору приносить дань, добытую на их земле, они бьют себя по губам, смотрят на небо и смеются, — обычай этот остался со времен самой глубокой древности.
Люди [племени] кунису чрезвычайно прямодушны. Обычно они питаются горными плодами, а также любят лакомиться вареными лягушками. [Лягушек] называют словом номи. Земля [кунису] находится на юго-востоке от столицы, отделена от нее горами, живут они в окрестностях реки Ёсино-кава, скалы и горные кручи там обрывисты, долины глубоки, тропки узкие и крутые. Нельзя сказать, что это далеко от столицы, но с самого начала ко двору государя они являлись редко. Однако впоследствии стали приходить часто и подносили дань со своей земли. Эта дань включает в себя каштаны, грибы и форель». (Перевод Л. М. Ермаковой)[227].
В «Кодзики» содержится также и поэтический текст, в котором рассказывается о местности Ёсино. Запись относится ко времени правления государя Ю:ряку (пр. 456–479).
«Когда государь направлялся во дворец Ёсино, на берегу реки Ёсино ему повстречалась девушка. Девушка была хороша собой. Поэтому он женился на ней. Потом вернулся во дворец [Асакура в Патусэ]. Позднее, когда государь снова направлялся во дворец Ёсино, он остановился на том месте, где ему повстречалась девушка. Воздвигнув там мост, он сел и стал играть на кото, а девушке велел танцевать. Поскольку девушка танцевала хорошо, он сложил песню: