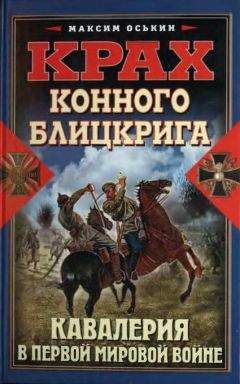История Первой мировой войны - Оськин Максим Викторович
Вернемся к майским событиям в Москве. Действительно, в период Первой мировой войны все воюющие стороны пытались играть на настроениях ксенофобии, в той или иной степени поощряя ксенофобское сознание в массах в целях их мобилизации на оборону. В отличие о России в Германии ксенофобия стала одной из характерных ведущих черт общегосударственной политики с самого начала войны, так как культивировалась она десятилетиями до 19 июля 1914 года. Показателем может служить описанная в своих мемуарах А. А. Брусиловым сцена с сожжением макета Московского Кремля в период Сараевского кризиса, еще до начала войны, когда считалось, что есть шансы на сохранение мира в Европе. С открытием военных действий во всех воюющих странах прошли аресты подданных стран-противников, конфискация (полная или частичная) их имущества, высылка их в отдаленные районы и проч. Погром посольств, преследование подозрительных лиц – все это неизбежность мирового конфликта, ведшегося с большим ожесточением и втянувшего в свою орбиту десятки государств.
В России выдающимся негативным явлением в данном плане стала так называемая шпиономания – процесс подозрения всех «ненадежных» национальностей страны (прежде всего русских немцев) в заведомой нелояльности и сочувствии к врагу. Шпиономания сильнейшим образом ударила по самой высшей власти, так как к лету 1915 года слухи обвиняли в «измене» даже и самую императрицу, немку по происхождению. Кстати говоря, московские погромщики, не стесняясь, озвучивали этот слух, требуя отправки императрицы в монастырь. При том что царица лично работала в лазаретах, в отличие от многих и многих женщин из российской элиты.
Тем не менее в целом в масштабах страны удалось не допустить масштабных эксцессов. За исключением Москвы, где местные власти первоначально закрывали глаза на нагнетание обстановки, скрытно, исподволь даже покровительствуя разжигателям межнациональной розни в попытке направить народное недовольство в якобы «нужное» русло, а потом, растерявшись, на три дня отдали столицу во власть толпы. Сведения о происходившем московскими властями намеренно скрывались. В Петроград шли депеши о «патриотическом буйстве» населения, то есть погромы выдавались за проявление патриотизма; данные же о жертвах и убытках замалчивались. Только через два дня о происходящих в Москве событиях узнал министр внутренних дел Н.А. Маклаков, так как московские власти сдерживали распространение информации, и лишь на третий день войска применили оружие, ибо бунт грозил захлестнуть Москву и весь столичный регион.
Власти в лице градоначальника князя Ф. Ф. Юсупова (кстати говоря, отца убийцы Г. Е. Распутина – Ф. Ф. Юсупова-Сумарокова-Эльстона) своим нарочитым бездействием только поощряли беспорядки, пока дело не зашло слишком далеко. Вдобавок ко всему «массовое бездействие полицейских чинов привело к широкому распространению слухов, будто немецкие погромы были организованы самой полицией или, по крайней мере, с ее ведома» [320]. В конечном счете градоначальник генерал А. А. Адрианов был даже отдан под суд.
В создавшейся обстановке уже никакие попытки восстановить контроль над ситуацией не могли быть до конца успешными. Волна недовольства, спровоцированная Ставкой и властями всех уровней, пока загонялась вглубь, чтобы в самом скором времени вырваться наружу мощной революционной волной. Л. Гатаговой верно отмечается, что «сам факт допущения погромов в крупнейшем городе империи наглядно свидетельствовал о глубокой деградации системы власти и бессилии российского общества. Драматические события последующих лет (когда мощный погромный потенциал обернулся движущим фактором смуты уже общероссийского масштаба) лишь подтвердили правомерность этого вывода» [321]. Теперь уже никакие усилия не смогли бы вернуть ситуацию в столице на прежний уровень. Москвичи, видевшие погром и участвовавшие в нем, осознали свою силу, что ярко проявится в период февральско-мартовских событий 1917 года.
Неверно было бы оценивать «антигерманский» погром в Москве только как корыстные, хулиганские действия скорее правонарушительного характера. Например, в Воронежской губернии, в отдельных ее частях, проживало немало немецких колонистов. Неудивительно, что губернские власти в 1915 году постоянно получали сообщения из различных волостей о «подозрительных аэропланах» над поселениями колонистов. А в одном из сел, после того как немец-колонист за пропаганду успехов германского оружия был арестован на две недели, а русский крестьянин, возглавивший выступление против землеустроительных работ столыпинской реформы – на три, начались волнения, перед которыми власть была вынуждена пойти на уступки. Воронежский губернатор не случайно доносил в Министерство внутренних дел, что «с каждым днем неприязнь к немцам обостряется». Подоплека происходящего лежала на поверхности: хорошая земля немецких колонистов.
Нельзя не отметить, что общественное негодование подобного рода имело под собой довольно устойчивую почву. Для проявления подобных действий и развития в массовом сознании ксенофобских настроений, к сожалению, присутствовали и объективные обстоятельства. Все-таки некоторые немцы, в том числе и обрусевшие, порой пытались облегчить участь своих военнопленных соотечественников. Производилось это на законных основаниях, однако закон отнюдь не всегда и даже далеко не всегда учитывает иные нормы положительного права – морали, обычаев, религии.
Что же касается помощи своим пленным, то Москва принимала в этом самое деятельное участие. По крайней мере, насколько это было возможно. В начале войны в Москве были созданы организации помощи русским пленным в Германии и АвстроВенгрии, а с июня 1916 года к массовому снабжению военнопленных продовольствием активно приступила Объединенная организация Всероссийского земского и городского союза и московского городского управления. Предшествовавшие запреты на общественную помощь первого года войны теперь были сняты (либо не преследовались нарушения), что позволило организациям Земгора мощно проявить себя на данном поприще. В частности, в месяц на заготовку сала и сухарей тратилось около полумиллиона рублей. Помощью от Земгора снабжались двадцать девять лагерей с 380 000 пленных. Однако, общественные организации выступали своеобразным конкурентом Комитета помощи военнопленным самой императрицы Александры Федоровны, считавшегося главным органом в данной сфере. Поэтому Московский городской комитет помощи русским пленным не мог работать в полную силу, так как его деятельность чрезвычайно стеснялась властями, вплоть до тайного надзора департамента полиции и провокационных попыток подвести деятелей Комитета под сфабрикованные обвинения в шпионаже.
Также существенной проблемой для столичного региона стали беженцы. В период Первой мировой войны в глубь империи хлынул поток беженцев из западных районов, причем как добровольных беженцев, так и насильственно выселяемых по приказу Ставки Верховного Главнокомандования. В целом, количество беженцев в российской глубинке было высоким: например, в Калужской губернии оно было сопоставимо с населением Калуги или всех прочих уездных городов вместе взятых. В то же время в Московской и Тульской губерниях удельный вес беженцев не отличался от калужского – немногим более 4 % от всего населения. Правда, в остальных регионах (кроме Екатеринославской губернии – 6,6 %) максимум был в Самарском регионе – 3,75 %, а в прочих – еще ниже [322]. Всего беженцев в России насчитывалось под шесть миллионов человек.
Дело в том, что беженцы получали пайки и должны были бы по идее использоваться в народном хозяйстве страны. Но большой ли был прок от женщин, детей и стариков? Тем более что многие из них не могли и не умели работать в сельском хозяйстве, а на заводах рабочих рук в общем-то хватало. Да и власти не сумели приспособить этих несчастных людей к полезной деятельности. Поэтому беженцы, в массе своей не сделав существенного вклада в дело обороноспособности империи, создали массу проблем – проживание в вагонах, перегрузка железных дорог, оседание в прифронтовой зоне, трата на них громадных средств. Для Москвы же беженцы в первую голову, создали жилищную проблему. Скачок цен на жилье, ухудшение жизни для бедноты и без того были головной болью московских руководителей. А тут еще и беженцы. Поставленные жизнью задачи решались, но не так интенсивно, как хотелось бы, и к Февралю 1917 года большинство беженцев столичного региона продолжали влачить жалкое существование на грани выживания.