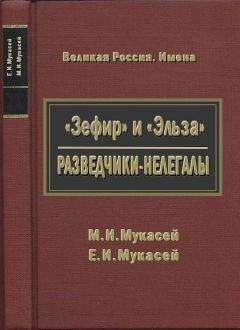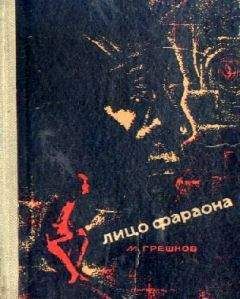Дмитрий Оболенский - Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855 – 1879
Так как при нас, кроме нянек, не было никого, то и детские игры не подчинялись никаким особенным правилам и не смешивались с учением; помню также, что я часто наряжался попом, устраивал себе нечто наподобие кадила[23] и представлял служение в церкви, читая разные молитвы: такого рода игру матушка нам не возбраняла, не видя в том никакого кощунства, через это я выучивал много молитв наизусть, присутствовал с большим вниманием при богослужении и получил о нем довольно подробное понятие, прежде чем мне открылся весь тайный и глубокий смысл его. Справедливо говорит Хомяков в одной статье своей «О воспитании»[24], что душевный склад ребенка, который привык сопровождать своих родителей в церковь по праздникам и по воскресеньям, а иногда и в будни, значительно разнится от душевного склада ребенка, которого родители не знают других празднеств, кроме театра, бала и картежных вечеров. В доме нашем соблюдались более или менее обряды, предписываемые православною церковью, а потому мы все нечувствительно приняли в себя те религиозные начала, которые остались в нас на всю жизнь и которые я только теперь понимаю.
В памяти моей живо сохранились последние дни матушки. В конце января 1827-го года, все мы – дети – были больны, у Юрия был круп, а остальные – ветряною оспою. Она не выходила из детской день и ночь и вследствие усталости, а также простуды сама 2-го февраля занемогла горячкою, которая скоро приняла сильное развитие. Выписан был из Москвы доктор Генекен и, сколько могу припомнить, по его совету, поставлены были больной пиявки, сделана горячая ванна, вследствие чего она сильно ослабела и положение ее сделалось безнадежным.
В то же время дедушка Нелединский сильно занемог припадками водяной болезни. В начале болезни матушки он каждый день потихоньку <по нескольку> раз приходил к ней в комнату, но потом делать этого не мог и не вставал со своего кресла. Матушке никто о болезни дедушки не говорил, и она сама о нем ничего не спрашивала, как будто предчувствуя то, что от нее скрывают. 13-го февраля дедушка скончался. Нам об этом ничего не сказали, боясь, чтобы мы не проболтались матушке, к которой нас приводили каждый вечер. На другой день, 15-го[25] февраля, скончалась и матушка, но я при последних минутах ее не присутствовал, ибо спал и нас – меньших детей – не будили, а старшие окружали ее постель. Утром мне сказали о случившемся и повели наверх в спальню, где тело матушки уже покоилось на кушетке. Не помню, что я тогда ощущал и как выражал скорбь свою, но, вероятно, впечатление было сильно, ибо я как теперь вижу все подробности сей плачевной сцены. В одно время две смерти поразили бедного батюшку, положение его было ужасно. Как перенес он это несчастие – действительно непонятно. На ежедневных панихидах, разумеется, был весь город. Смерть матушки поразила всех ее знавших. Плач о ней был непритворный, и в день похорон стечение народу было неимоверное. Я имел несколько раз случай впоследствии слышать от людей совершенно посторонних, что все классы людей единодушно проливали слезы. Еще недавно, в бытность мою в Калуге, какая-то мещанка, узнав, что я сын Аграфены Юрьевны, залилась горючими слезами, вспоминая о ней. Тело матушки похоронено было в Калуге, в Лаврентьевском монастыре, вместе с дедом.
Убитый горем батюшка не знал, как ему с нами быть и кому нас поручить. Самому же заниматься нами ему было совершенно невозможно. Старшая сестра, Катенька, взята была Самариными, вторая, Софинька, отдана тетушке Елене Ивановне, которая жила тогда у графини С. В. Паниной. Братья Андрей и Василий отосланы были вскоре, сколько мне помнится, в Харьков к тетушке Щербатовой, а остальные остались дома, под непосредственной командой добрейшей Екатерины Яковлевны, которая еще жила при матушке и помогала ей учить и надзирать над детьми. Таким образом, вскоре после кончины матушки семейство наше разбрелось, и с тех пор нам не суждено было ни разу всем до единого собраться в одно время под родительский кров.
К нам начали поступать гувернеры, хотя перед сим были у старших братьев несколько немцев и французов, но я их мало помню, ибо был слишком мал. В первый раз подпал я под власть господина Виней, француза. Поступил он к нам на следующих условиях: во-первых – жалование, сколько – не знаю; второе – каждый день бутылка пива и хлеб и каждую неделю по два фунта сыра и штофу водки; третье – право не обедать дома и пользоваться воскресеньем.
Это был толстый господин, вероятно, служивший некогда барабанщиком или сапером в наполеоновской армии и взятый в плен в 12-м году. Это предположение я основываю на том, что он угощал нас в дни именин Наполеона и в дни его блистательных побед, и, напротив, крепко бивал при воспоминании неудач французской армии. Чему он нас учил, я, правда, не помню; кажется, ровно ничему, хотя постоянно находил случай беспощадно бить нас линейкой. Часто запирал он нас в черный чулан и вообще неистовствовал безнаказанно, ибо ничего до батюшки не доходило, потому что Виней нам решительно объявил, что ежели кто-нибудь из нас осмелится хоть слово сказать о нем не только папеньке, но и Екатерине Яковлевне, то он того забьет линейкой до смерти, а ежели будет молчать – то он нас будет каждый день кормить лакомствами. И действительно, каждый день мы после обедни ходили с ним гулять и постоянно заходили в какой-то дом, где жила какая-то женщина, которую он называл своей женой, хотя она была русская. Женщину эту он при нас неоднократно бивал и раз даже пустил в нее стулом, но за что именно – не припомню. Кроме того, часто во время прогулок заходили мы в Гостиный двор, в колониальные лавки[26], где Виней позволял нам есть что угодно и сколько угодно. Не думаю, чтобы он платил за что-либо купцам, а вероятно, просто брал силой в пользу губернаторских детей. Несмотря на все меры, принятые Виней, Екатерина Яковлевна скоро выдала его папеньке, и вследствие сего француз был выгнан из дому, поколотив нас перед отъездом на порядках. До сих пор не могу понять страшное зверство этого человека, как мог он равнодушно обращаться так с детьми и так умышленно развращать их, как он это делал. Я даже думаю, что он это делал из политического убеждения – француза на это хватит.
Кто у нас был после Виней: кажется, поступил добрый и вечной памяти достойный Егор Иванович Бот – честный немец, который мог служить настоящим противоядием скверному Виней. Не могу с достоверностью сказать, откуда г-н Бот был урожден по религиозным своим убеждениям; он, по вероятности, принадлежал к секте гернгутеров[27], и как он часто говаривал сам о Сарептских колониях, то легко может быть, что он и сам был тамошний уроженец, но каким образом он попал в Калугу, мне решительно неизвестно. Он был приставлен к нам троим – брату Сергею, брату Михаилу и ко мне. Брат Юрий был еще на руках няньки, а братья Андрей и Василий были отосланы в Харьков. Первым хорошим впечатлением моего детства я много обязан Боту. Это было добрейшее создание, которое успело бескорыстной любовью сильно привязать нас к себе. Я любил его всем детским сердцем своим, не находя в нем ни малейшего недостатка. Я считал его красавцем и даже теперь помню, как некогда ласкал его, как целовал его руки и плешивую голову. Не могу понять, чем мог он возбудить во мне такое живое к себе чувство; особенных ласк с его стороны я не помню, хотя я, как младший, может быть, и пользовался его особенным расположением, но не думаю, чтобы он показывал это, впрочем, братья тоже его очень любили; впоследствии, когда мы были с ним в пансионе, то и другие дети питали к нему то же чувство; предполагать надо, что такова была уже его любящая натура, что сама по себе, невидимой силой, действовала на детей.
Учил он нас, сколько помню, только одному немецкому языку, но с таким успехом, что мы скоро успели весьма порядочно говорить по-немецки и знали очень много стихов на этом языке. Шиллер был любимым поэтом Бота, а потому преимущественно заставлял он нас выучивать его стихотворения. Во время ежедневных прогулок наших Бот не упускал ни малейшего случая и повода, чтобы выразить разного рода нравственные правила, и таким образом передавал нам понемногу свои протестантские убеждения. Не скажу, чтобы такая постоянная проповедь достигла своей цели, подробности ее даже совершенно исчезли из моей памяти, но, в общем, у меня остались воспоминания о тех впечатлениях, которые производили на меня полумистические слова Бота. Он заставлял нас молиться на немецком диалекте, мы читали обыкновенно «Отче наш» и еще какую-то молитву, которую теперь решительно не помню. Каждый вечер Бот, уложив нас спать, сам садился за стол, брал библию и псалтырь и в полголоса читал; потом начинал довольно громко петь псалмы – все это при слабом освещении сальной свечи, при спокойствии и тишине во всем доме производило на <меня> такое сильное впечатление, что я, лежа в кровати, долго не мог сомкнуть глаза и часто плакал вследствие какого-то особенно высокого душевного настроения, в котором сам себе не мог дать отчета. По воскресениям и праздникам мы постоянно ходили в церковь, и никогда Бот не противодействовал этому, хотя сам в нашу церковь не ходил. Вообще я не помню, чтобы он когда-либо позволял себе совращать нас от православия.