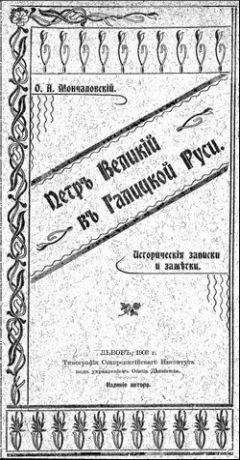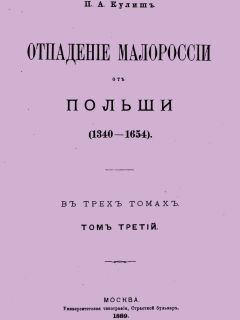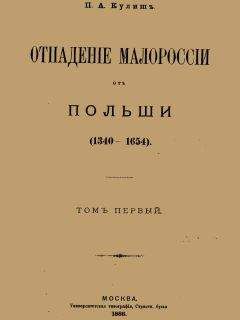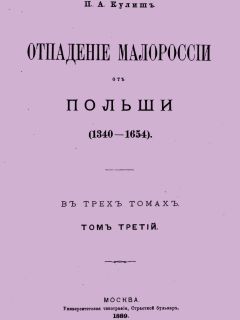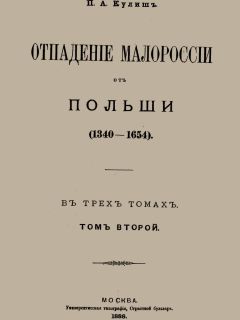Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 1
Три орды кочевали тогда в виду Польши у Черного моря, независимо от крымцев: более отдаленная — в Добрудже, две ближайшие — при устьях Буга и Днестра. Под стенами крепостей Очакова, Белгорода и Килии расположены были поселения турецких купцов. Эти купцы снабжали татар лошадьми и оружием для вторжения в Украину, с тем, чтобы добычу делить пополам; а многие турки и сами хаживали с татарами на добычу. Турецкое правительство, извлекало из этой добычи свою пользу: на таможнях от уведенного из Украины скота и пленников шла в казну известная плата. Поэтому турецкие власти смотрели сквозь пальцы на нарушение договорных статей с Польшею. Приведем белее важные места из сеймовой речи и реляции Претвича.
"Когда пан краковский (Ян Тарновский) принял должность коронного гетмана, немедленно отправился он на пограничье и объехал все украинные замки и замочки. Не только на границе вокруг этих замков, но и около Львова, к Люблину и Перемышлю, увидел он пустыни, которых наделали татары, и которые теперь заселились, как около Львова, так и на самой границе, где много лет было безлюдье. Опустошение этой земли происходило оттого, что одна коронная стража стояла там, где ныне Бар, а другая там, где воевода белзский (Синявский) построил на Синеполе замок. Пока сторожевые роты успевали дать знать о татарском набеге в замки и гетманам, татары, в одни сутки, оставляли стражу в 30-ти милях позади себя и безопасно являлись под самим Опатовым. Они захватывали у костелов рыдваны с панскими семействами, полонили простой народ и исчезали со своей добычею. Теперь (продолжает Претвич) начали мы держать стражу в 20-ти и более милях дальше прежних сторожевых мест. Народ, узнавши заблаговременно, что идут татары, имеет время сбежаться в замки. Таким образом пустыни начали населяться, и населаются до сих пор. Между тем наши гетманы два раза разбили на голову белгородских, очаковских, добруджских и килийских татар, которые собирались ордою до тысячи человек, — один раз у Зинькова, в другой — около Бара. С того времени татары начали малыми купами прокрадываться мимо наших сторож: чаще всего по 200, по 300, а то и по 50, 60, по 40 по 30, даже и по 10 человек, потому что трудно отыскать сдеды небольшой купы. Они ходят каждая особняком, а зверя в степях везде много, именно: диких коней, зубров, оленей, которых следы трудно различить от татарских. Этим способом татары набегали раз двадцать в год и уводили множество пленников из Украины. При таких обстоятельствах, пограничные воеводы снаряжали легкие отряды, человек в 200 или 300 из отважнейших людей и посылали их в догонку за татарами. Эти отряды скакали по степям ночью, не смотря ни на какую темноту, а днем залегали в какой-нибудь балке (долине), укрываясь таким образом от наблюдений татарских сторожевых разъездов. Иногда они отбивали у татар добычу, иногда заграждали им путь в польские пограничные поселения".
Такой способ войны, по словам Претвича, назывался залеганьем на поле или казакованьем. От Галича до Черкас раскинуты были сборные пункты казацких дружин. С каждым почти годом они меняли свои становища, то выдвигаясь в безлюдье, то подаваясь назад, к тогдашней Украине Польского государства. Татары вторгались в эту Украину тремя полосами, на которых были удобные переправы, и которые назывались татарскими шляхами. Самый северный шлях проходивший мимо Черкас, Корсуня, Киева, Луцка, Сокаля ко Львову, назывался Черным; средний — из Очакова через степные речки: Саврань, Кодыму, Кучмань, и мимо Бара, также ко Львову, назывался Кучманским; южный — по берегам Буга мимо Зинькова, через Покутье и Бучач, назывался Волошским или Покутским. Между этими-то шляхами, под прикрытием казацких стоянок и разъездов, усиливались утвердиться вольные поселения, служившие казакам пристанищами и пополнявшие их дружины. По нескольку раз приходилось этим поселениям исчезать без остатка. Выбрать село, то есть заполонить всех жителей, было тогда для татар делом обыкновенным. Через несколько времени после набега, снова на пепелищах появлялись кое-как слепленные хаты, и снова у жителей начиналась борьба с хищниками за свое существование. Из реляции Претвича видно, что замки: Ров, Ольчидаев и Жван, были разорены в его время волошским господарем, а окружавшее их население переведено за Днестр; когда же, на место старого Рова, устроен был крепкий замок Бар, вокруг него снова появились хутора, и многие из загнанных в Волощину вернулись на старые свои займища. Так было по всей пограничной линии, которая в начале появления казачества едва держалась между Галичем и Киевом, а при Хмельницком выдвинулась далеко на восток, за реку Ворсклу. Колебание пограничной линии то в одну, то в другую сторону будет виднее моему читателю из того обстоятельства, что даже в 1624 году, после хотинского поражения турок коронным и казацким войсками, после многочисленных, весьма серьёзных ударов, нанесенных казаками крымским и ногайским татарам внутри их поселений, Сигизмунд III, устанавливая еженедельные торги в Киеве по просьбе мещан, употребил в своей грамоте следующее выражение: "Miasto nasze Kijow na granicy y w oczach prawie nieprzyiacielskich polozone iest" [16].
Но заселение украинских пустынь, так же как и развитие казачества, совершалось, можно сказать, против воли правительства. Реляция Претвича была не что иное, как оправдание в наездах, которые казаки делали на татарские улусы. С одной стороны, он доказывал необходимость, с другой — пользу казачества; но жалобы татарского хана все-таки заставили короля, в 1552 году, удалить Претвича из Барского староства на староство Терембовльское. Король был убежден, что татары оставили бы его владения в покое, если бы старостинские служебники и казаки пограничных замков: Киева, Канева, Черкас, Белой-Церкви, Брацлава и Винницы, не ходили в поле подстерегать Орду и не угоняли татарских стад. Королевской политикой управляли люди, которым украинские дела представлялись далеко не в истином своем положении. Казаки, обеспечивавшие панам спокойное пользование внутренними землями королевства, казались им буйными головами, а не людьми, поставленными в необходимость казаковать. Мысль о реестровке казаков, приписываемая обыкновенно Стефану Баторию, обнаруживается по документам еще в 1540 году, через пять лет по смерти Дашковича. В этом году заведывавший Киевским воеводством князь Коширский получил от Сигизмунда августа такой выговор: "Многократно прежде писали мы к тебе, обнадеживая тебя нашею милостию и угрожая наказанием, и повелевали, чтобы ты бдительно наблюдал и не допускал тамошних казаков нападать на татарские улусы. Вы же никогда не поступили сообразно нашему господарскому повелению, и не только не удерживали казаков, но, ради собственной выгоды, сами давали им дозволение; и чрез такую неосмотрительность вашу, государство наше не могло пребывать в покое и терпело большой вред от татарского поганства". Далее король перечисляет прежние казацкие нападения на татар, потом пишет: "Посылаем дворянина нашего Стрета Солтовича. Мы велели ему всех киевских (находящихся в Киевском воеводстве) казаков переписать в реестр и доставить нам этот реестр. Повелеваем тебе, чтобы ты велел всем казакам непременно записаться в реестр и после того никоим образом не выступать из наших повелений; а затем кто осмелится впредь нападать на татарские улусы, тех хватать и казнить, либо к нам присылать. Если же перекопский царь, за вред, нанесенный его подданным, нападет на наше государство, или пошлет на него своих людей, тогда никакая твоя отговорка принята не будет, и мы, без всякого милосердия, взыщем на твоих маетностях и на тебе самом вред, нанесенный нашим господарским и земским имуществам. В 1560 году он снова настаивал, чтобы пограничные старосты отнюдь не посылали своих служебников и казаков на полевую службу. Спустя 32 года после выговора князю коширскому, дела казацко-мусульманские оставались всё в том же положении. Придворная политика была сама по себе, а сила вещей на арене татарского погрома — сама по себе. В 1572 году король писал к Дмитрию Вишневецкому, что он доволен его храбрым отражением татар, но не согласился на его предложение — содержать гарнизон в замке, устроенном им на днепровском острове, и повелевал ему бдительно смотреть, чтобы казаки отнюдь не вторгались в области турецкого императора, с которым и с крымским царем заключен был вечный мир. Но королевские наказы и угрозы оставались без последствий в силу противодействия причин, которые могла бы указать правительству только история недобитого татарами и литвинами русского общества, если бы она могла существовать в то время, и если бы правительство было способно послушаться указаний истории. В 1568 году, за один год до Люблинской политической унии, которой поляки надеялись успокоить себя относительно будущности Руси, опять читаем в королевском универсале бессильные угрозы королевского правительства тем людям, которые, под видом бунтовщиков и в форме добычников, работали в пользу великого дела равноправности на суде, достигнутой наконец Русью в наше поворотное время. "Осведомились мы", писал тот же король, "что вы, самовольно выехавши из наших украинских замков и городов, проживаете на Низу, по Днепру, по полям и по иным входам, и причиняете вред и грабительство подданным турецкого царя, также чабанам и татарам царя перекопского, а тем самым приводите границы наших государств в опасность от неприятеля. Приказываем вам возвратиться в наши замки и города с поля, с Низу и со всех входов, не отправляться туда своевольно и не беспокоить татарских улусов. Если же кто не станет повиноваться настоящему нашему повелению, тем украинские наши старосты будут чинить жестокое наказание".