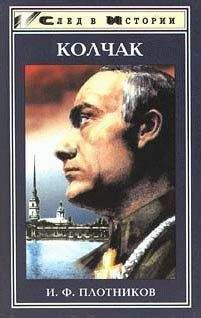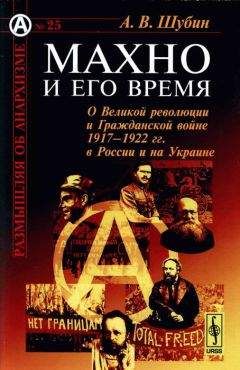Сергей Соловьев - Император Александр I. Политика, дипломатия
Но русский император не хотел ограничиваться союзом между тремя державами: он хотел призвать к нему все европейские державы и таким образом осуществить то, что в 1805-м было осторожно названо «чем-то похожим на вечный мир». Со стороны короля Прусского, безгранично преданного императору Александру, нельзя было ожидать сопротивления этому плану; но и в Пруссии уже начала высказываться неприязнь к России: в самом начале 1816 года в Петербурге знали, что знаменитый генерал Гнейзенау толковал об опасности, которая грозит Пруссии со стороны России, и о необходимости вовремя принять меры к предотвращению этой опасности. «Прусский кабинет, — писал Гёнц, — к счастию, убедился, что для него нет спасения, кроме тесного союза с Австриею, — союза, который даст этим двум государствам средства сообща располагать силами остальной Германии. Эта система восторжествовала над системою русского союза, который основывался только на временных нуждах и обстоятельствах. Русский союз не имел теперь ни одного приверженца в Пруссии; сам король, хотя лично преданный императору Александру, кажется, оттолкнулся от русского союза безвозвратно».
Гораздо громче толковали в Вене об опасности, которая грозит Австрии от России, ибо в Вене понимали, что пестрая Австрийская монархия вся состоит из слабых мест, и страх был господствующим чувством венского кабинета, особенно страх пред Россией по пламенной связи ее с многочисленными славянскими подданными Австрии. Несмотря на то что император Франц был членом Священного союза, опытные и внимательные дипломаты подмечали в 1816 году, что австрийское правительство ведет с Россией подземную войну. Австрия старалась быть со всеми правительствами в сношениях дружественных или даже очень дружественных. Говорили, что князь Меттерних имел искусство устроить себе из дипломатического корпуса в Вене настоящий мужской сераль; и горе тому дипломату, который не хотел обожать венского Далай-ламу. В этой совершенно физической стране, в этом царстве желудка, как уже тогда отзывались об Австрии, нравственные правила и побуждения считались старомодным явлением, и дипломат, хотевший поддержать свое значение, должен был прежде всего запастись хорошим поваром. Но хорошие обеды не могли заглушить опасений насчет различных народностей, смотрящих в разные стороны: Иллирии был дан титул королевства из страха пред Россией, пред сочувствием к ней славян; католицизм явился готовым и надежным орудием для ослабления этого сочувствия, и началось сильное движение против православия. Много было также хлопот и с итальянцами, которых надобно было онемечить. Недовольные говорили, что в итальянских владениях Австрии надобно было не только жить, но и умирать по-немецки, от немецкой руки, потому что Ломбардия была наводнена медиками, высланными туда из немецких владений Австрии.
Опасаясь более всего России, видя в ее императоре второго Наполеона, только под другими формами, венский кабинет подозрительно смотрел на все планы Александра: в его либеральных стремлениях он видел искание средств приобрести расположение детей революции, людей, ей сочувствующих; в его желании — ввести в Священный союз все, и второстепенные, государства — венский кабинет видел желание приобрести в этих мелких государствах послушные орудия для господства, для управления делами Европы, — желание, тем более опасное для венского кабинета, что эти мелкие державы были самые податливые на либеральные перемены, посредством которых могло усилиться революционное движение, столь страшное для рухлого здания Австрийской империи. Страх сменялся в Вене надеждою, основанною на характере Александра и других благоприятных обстоятельствах.
«Там, где неограниченная власть одного человека решает все, — писал Гёнц, — и где, к довершению затруднений, характер этого человека составляет загадку, расчеты и предположения не имеют твердого основания. Император Александр, несмотря на ревность и энтузиазм, какие он всегда показывал к Великому союзу, из всех государей может всего легче обойтись без него. Он не имеет нужды ни в чьей помощи; если существуют для него опасности, то они по крайней мере не вне его империи, тогда как вся Европа страшится его могущества, и страшится основательно. Великий союз для него только орудие, посредством которого он проводит свое влияние в общих европейских делах, что составляет предмет его честолюбия, — орудие удобное и спокойное, которым он владеет с большою ловкостью; но он сломает его в ту же минуту, когда найдет возможность заменить его чем-нибудь более непосредственным и действительным. Его интерес в сохранении этой системы не похож на интерес Австрии, Пруссии, Англии, интерес необходимости или страха; для него это свободный и рассчитанный интерес, от которого он может отказаться тотчас, как скоро другая система представит ему большие выгоды. Русский император есть единственный государь, который в состоянии осуществить самые обширные предприятия. Он в челе единственной в Европе армии, которою можно располагать. Ничто не устоит перед первым ударом этой армии. Никакие препятствия, останавливающие других государей, для него не существуют, как, например, конституционные формы, общественное мнение и проч. Задуманное нынче он может осуществить завтра. Говорят, что он непроницаем, и, однако, все позволяют себе судить о его намерениях. Он чрезвычайно дорожит добрым о себе мнением, быть может, более, чем собственно так называемою славою. Названия умиротворителя, покровителя слабых, восстановителя своей империи имеют для него более прелести, чем название завоевателя. Религиозное чувство, в котором нет никакого притворства, с некоторого времени сильно владеет его душою и подчиняет себе все другие чувства. Государь, в которомдобро и зло перемешаны таким удивительным образом, должен необходимо подавать повод к большим подозрениям, и безрассудно было бы утверждать, как он поступит в том или другом случае. Но когда я его вижу в отношениях данных и положительных, то, мне кажется, не будет безрассудным предположить, что он сделает и чего не сделает. Он смотрит на себя как на основателя европейской федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжение двух лет он не написал ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славою века и спасением мира. Возможно ли, чтоб после того пред общественным мнением, которое он уважает и боится, пред религиею, которую он чтит, он бросился в предприятия несправедливые для разрушения дела, от которого он ждет себе бессмертия! Если многие думают, что все это с его стороны комедия, то я попрошу доказательств. Но положим, что в идеях и чувствах императора произойдет внезапная перемена: будет ли он в состоянии осуществить свои честолюбивые планы? Россия страдает общею всем европейским государствам болезнию — финансовым расстройством. Пока Австрия и Пруссия в союзе, Россия не может предаться одиночным предприятиям. Вначале она не встретит больших препятствий; но мало-помалу противодействие организуется, вся Германия подвигнется на помощь Австрии и Пруссии, и равновесие в силах установится, не считая содействия Англии. России останется союз с Францией, союз возможный и самый страшный; но оба эти государства не в состоянии причинить вред, пока не будет разорвана срединная линия, состоящая из государств, которые желают мира».
В виду конгресса, на котором должен был решиться вопрос о характере союза между европейскими державами, Меттерних построил свою систему, которая состояла в следующем: «Наполеон поставил свой трон на революции, не сокрушивши ее. Когда этот трон разрушился, революция снова появилась; с знаменитой эпохи „Ста дней“ начинается расширение революционных принципов, более или менее распространенных в каждом государстве. Явится ли новый владыка, которого призовут для удержания этого зла? Нет, прежде всего возможность этой роли не находится в характере и принципах ни одного из царствующих государей, настолько сильных, чтобы принять ее на себя. Состояние Европы требует власти: при Наполеоне эта власть была деспотическая. Если не хотят, чтобы она стала демократическою, то она должна быть сохранена и поддержана четырьмя великими державами, поставленными в челе европейской системы; с течением времени к ним можно присоединить пятую державу — Францию. Пусть зависть называет эту систему аристократическою: слова не значат ничего, лишь бы достигались благие цели и зло было сдержано; впрочем, для того чтоб эта система продолжалась и имела влияние, которое одно может сделать ее полезною, необходимосогласие в принципах и доктринах, отречение от частных видов и соперничеств и согласие относительно исполнения». Последними словами Меттерних намекал на русского императора, которого принципы рознились от принципов венского кабинета. Зато последний был согласен с охранительною политикой торийского кабинета в Англии.