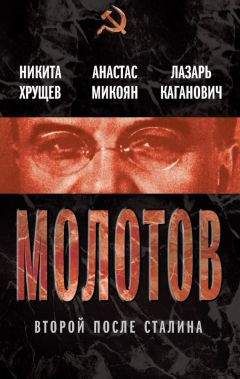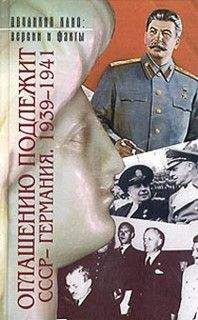Габриэль Городецкий - Роковой самообман
Шуленбург приехал в Кремль около 5 ч. утра. Он нашел Молотова «усталым и измученным». Даже в этот тяжелый момент Шуленбург не изменил себе. Он пропустил список обвинений и сказал Молотову, что «с самым глубоким сожалением» должен уведомить его о том, о чем сам еще не знал, когда встречался с ним несколькими часами раньше, — что Германское правительство считает себя обязанным принять «военные контрмеры» против сосредоточения советских войск на границе. Он добавил, что «не может выразить свое подавленное настроение, вызванное неоправданным и неожиданным действием своего правительства». Напомнил Молотову о чрезвычайных усилиях, приложенных им, чтобы сохранить мир и дружбу с Советским Союзом. Все еще надеясь, что данная ситуация окажется прелюдией к переговорам, Молотов спросил, каков статус этой вербальной ноты, ведь она не похожа на официальное объявление войны. Но Шуленбург отнял у него всякую надежду, прямо сказав, «что, по его мнению, это начало войны». Молотов тщетно пытался объяснить, будто сосредоточение войск — это всего лишь элемент летних маневров. Он выразил общее настроение Кремля, пожаловавшись, что «до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству». Не проявив большого интереса к теме организации эвакуации обоих посольств — в Москве и Берлине, — Молотов желал знать одно: «Для чего Германия заключала пакт о ненападении, когда так легко его порвала?» На этом Шуленбург простился с Молотовым, «молча, но с обычным рукопожатием»{1432}.
Даже когда Молотов вернулся с печальным известием, Сталин не разрешил военным приступить к осуществлению планов обороны, утвердив специальную директиву, которая, в частности, все еще запрещала войскам, «за исключением авиации», вторгаться в расположение немецких войск. Он явно сохранял иллюзию, будто войну можно отсрочить. Но в условиях внезапного нападения и без предварительной подготовки результативное выполнение директив было невозможно{1433}.
К 7 ч. собрались члены Политбюро. Сталин в соседней комнате обсуждал положение с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и Маленковым. Хотя он казался спокойным и уверенным в себе, сделать официальное объявление по радио он поручил Молотову. Только в тот момент все дипломатические усилия по исправлению ситуации были оставлены и директивы по развертыванию войск различных фронтов получили зеленый свет. Они предусматривали осуществление «операций в глубину», в ходе которых авиация, уже подвергшаяся сокрушительному удару люфтваффе, должна была играть ведущую роль в разрушении боевых порядков немцев и уничтожении их авиации в тылу на глубине 100–150 км{1434}. Эти приказы так и не были выполнены.
* * *Все утро 22 июня Сталин не исключал возможность, что Советский Союз просто запугивают, чтобы вынудить к политическому подчинению. Как признался Молотов Криппсу через неделю после того, как разразилась война, Кремль не ожидал, что она «начнется без всякого спора или ультиматума»{1435}. Интересно отметить первую реакцию Сталина на зловещие новости с фронта утром 22 июня. Немцы, ворчал он, «обрушились на нас без всякого предлога, не проведя никаких переговоров; просто напали, подло, как разбойники». Он также, по всей видимости, оправдывал свою политику накануне войны, пользуясь объяснением, которое дал нападению Шуленбург и которое гласило, что немцы «считают угрозой сосредоточение советских войск на их восточных границах и приняли контрмеры»{1436}.
Сталина в равной степени озадачивал тот факт, что Англия не присоединилась к походу на Советский Союз. Пока он верил, что может предотвратить войну, вероятность альянса с Англией маячила где-то далеко. Загипнотизированный недавними успехами немцев на Балканах, Сталин имел все меньше охоты делать малейший шаг, который мог бы быть истолкован ими как провокация. Дело Гесса и предостережения Криппса и Черчилля только усилили его подозрения насчет англичан. Когда британский поверенный в делах утром в воскресенье 22 июня нанес визит в Кремль, он обнаружил, что русские не только «крайне взволнованы», как и следовало ожидать, но и «исключительно осторожны»{1437}. Этим объясняется молчание Майского и смятение, захлестнувшее его в первые дни войны. Майский услышал о вторжении в утренних новостях по Би-Би-Си и даже отложил встречу с Иденом, пока не получил представление о советской политике из обращения Молотова по радио{1438}.
Во время уик-энда, предшествовавшего нападению, Черчилль впервые проявил некоторую заинтересованность в русской войне. Операция «Алебарда» против Роммеля провалилась, и война на востоке, по мнению Идена, могла бы оказаться полезной: «Нам нужна передышка, и это может пригодиться»{1439}. Мысли Черчилля преимущественно были заняты тем, как возобновить попытки «вернуть себе инициативу в Ливии и освободить Тобрук». Он надеялся послать туда жизненно необходимые 100 танков специальным конвоем, «если и когда противник вступит в бой с Россией»{1440}. В тех обстоятельствах, какие сложились перед самой войной, добиться этого не стоило бы большого труда. Когда война разразилась, Майский поспешил задать Идену ряд вопросов, выдававших все ту же заботу:
«Может ли он заверить свое правительство, что наша позиция и наша политика неизменны? Он убежден, что Германия постарается сочетать наступление на Советский Союз с мирными инициативами в отношении западных держав. Может ли Советское правительство быть уверено, что наши боевые действия не затихнут?»
Черчилль с радостью ответил на скромный запрос Майского. Он никогда не рассматривал мирных предложений и меньше всего собирался делать это теперь, когда Германия была связана на восточном фронте. Его риторика в знаменитой речи по радио в день вторжения, скрывая отсутствие каких-либо крупных сдвигов в стратегии, вся направлена на то, чтобы рассеять главную тревогу Советов, их поразительную уверенность в потворстве Англии нападению немцев: «Мы никогда не будем ничего обсуждать, никогда не будем вести никаких переговоров с Гитлером или кем-либо еще из его банды. Мы будем сражаться с ним на земле, будем сражаться с ним на море, будем сражаться с ним в воздухе…»{1441} Отзыв Майского об этой речи в его дневнике выдает испытанное им облегчение: «Сильное выступление! Замечательное выступление… По существу своему его речь — воинственная, решительная, никаких компромиссов или соглашений! Война до конца! Это как раз то, что нужно сегодня»{1442}.
Политбюро Британской коммунистической партии в тот же день, не дожидаясь инструкций из Москвы и прежде, чем услышало черчиллевское обещание поддержки, выпустило заявление, в котором утверждалось, что гитлеровское нападение — это «результат тайной деятельности, развернувшейся за кулисами миссии Гесса»{1443}. Видные работники советского посольства в Лондоне несколько раз выражали подозрения насчет одобрения Англией нападения Германии даже после речи Черчилля. Если Черчилль и Иден вынуждены будут уйти, настаивали они, те, кто придут на их место, «заключат с Германией сепаратный мир за счет Советского Союза»{1444}. Да и Криппс не был удивлен, обнаружив в свою первую встречу со Сталиным после вторжения, что тот опасается возможного сепаратного мира. В конце концов, признавался он в своем дневнике, «мы постарались дать им повод [для опасений] в прошлом, чтобы помешать им слишком далеко зайти в отношениях с немцами»{1445}. «Все думали, — вспоминал Литвинов, ставший послом в Вашингтоне, несколько месяцев спустя, — что британский флот идет на всех парах в Северное море для совместной с Гитлером атаки на Ленинград и Кронштадт»{1446}.
Заключение
В своей внешней политике Сталин не руководствовался сентиментами или идеологическими пристрастиями. На его государственную деятельность значительный отпечаток наложило наследие царской России, и встававшие перед ним проблемы имели глубокие исторические корни. «Я теперь читаю за завтраком историю жизни царя Александра и его сложных отношений с Наполеоном во времена Тильзита и после, — записал Стаффорд Криппс в своем дневнике всего за несколько месяцев до немецкого вторжения, — и поистине поразительно, до чего похожа стратегия Гитлера в отношении России на стратегию Наполеона в отношении Александра! Так и кажется порой, что история повторяется»{1447}.
Правда, правление Сталина характеризовалось особыми и весьма деспотическими методами достижения целей. Кто станет оспаривать катастрофические последствия сталинских чисток в армии в 1930-е гг. и его вмешательства в действия Верховного командования? Жестокая практика далеких революционных дней несомненно сохранилась. И все же было бы ошибкой объяснять советскую внешнюю политику после пакта Молотова — Риббентропа либо прихотью тирана, либо безудержным идеологическим экспансионизмом.