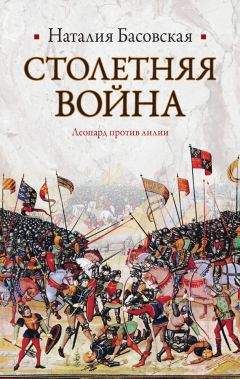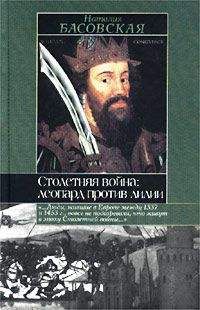Павел Загребельный - Диво
- Знаете что? - наконец нарушила молчание Тая и посмотрела на Отаву своими разноцветными острыми глазами. - Мне почему-то показалось, что вы, при всей своей трагичности, которую носите в себе... не знаю, как точнее выразиться...
- Говорите прямо, - подбодрил ее Борис, не догадываясь, о чем она поведет речь.
- При всем этом вы... - Она снова умолкла, подбирая надлежащие слова. - Все-таки вы не из тех людей, которые могли бы отказаться от какого-нибудь своего... ну, я бы сказала, благополучия.
- Благополучия? - удивился Отава. - Какое же благополучие?
- Ну, скажем... Ваш Киев, ваша работа, ваше профессорство, ваша София, в которую вы меня так и не повели почему-то, а почему именно - я теперь лишь догадалась: вам тяжело туда идти с женщиной, которая, возможно, немножко понравилась вам как мужчине, но не как профессору Отаве, сыну профессора Гордея Отавы...
- Какая-то бессмыслица, - пробормотал Борис. - Тая, вы несправедливы ко мне.
- Слушайте, слушайте, имейте мужество хотя бы настолько, чтобы выслушать, что вам скажет женщина... Вот мы с вами стоим тут без свидетелей, никто ничего не знает о наших с вами отношениях, не об этом речь... Итак, вы можете говорить прямо и открыто. Скажите: вы могли бы бросить все это ради... Ну, в данном случае - ради меня? При условии, конечно, что я именно та женщина, которая вам может понравиться, которую вы искали всю жизнь и наконец нашли. Пускай это была бы не я, пускай другая женщина. Но смогли бы вы?
- Смог ли бы?
- Да, да, и не думайте долго, отвечайте сразу, потому что только ответ без колебаний можно считать искренним, речь идет о человеческих взаимоотношениях, здесь не торгуются, не рассчитывают с холодным сердцем, говорите: да или нет?
- Видимо, нет, - твердо сказал Борис, - потому что это просто бессмысленно.
- Правильно. Я так и знала. Мотивировки не нужны. Не нужно ссылаться на ваш долг перед памятью отца, перед наукой, перед родным городом, все это правильно. Я только хотела знать.
- Но ведь это напоминает опыт, который проводят на собаках, или что-то в этом роде, - обиделся Борис.
- Нужно знать, с кем имеешь дело. Вы думали, чем мне понравились? Что профессор? Начхать! Фресками? Сама нарисую все ваши фрески...
- Они неповторимы, - напомнил, еще больше обижаясь уже и за свой собор, Отава.
- А я - повторима? Еще будет когда-нибудь такая? Или, может, была уже? Нигде и никогда! Человек появляется один раз и исчезает, и это самое неповторимое и самое прекрасное из всего, что может быть. Но вы еще не дослушали до конца. Вы понравились мне еще там, у моря, - она окинула его взглядом с головы до ног, словно убеждаясь, - вы понравились мне только потому, что у вас... длинные мышцы...
- Что? Какие мышцы?
- Ну есть люди с короткими мышцами, есть с длинными. Волокна мышц... Собственно, это анатомия... Но у меня своеобразное суеверие: верю только тем, у кого мышцы длинные.
- Послушайте. - Он не находил слов от неожиданности. - Это... это же расизм! Да нет, просто какой-то идиотизм... Мышцы... Но я ведь не борец, не боксер, даже не молотобоец! Голову вы у меня заметили или нет?
- Только потом. Голова как раз вам мешает.
- Чтобы я пожертвовал всем ради вас, любительница... этих длинных мышц? В таком случае я тоже отплачу вам тем же самым... Враждовать - так враждовать до конца.
- Я не собиралась с вами враждовать.
- Я тоже. И то, что вам скажу, не будет таким прямым и острым, как ваше... Просто, если хотите, расскажу вам одну небольшую новеллку.
- Вы еще и пишете новеллы?
- Нет, это Андре Моруа. У нас ее не переводили.
- Даже так? Вы так милы? Хотите сделать для меня сюрприз?
- Да нет, просто рассказать хочу. Довольно прозрачная мораль. Но написана хорошо.
- Что же, если хорошо...
- Речь там идет о парижском юноше, который полстолетия назад задержался перед витриной торговца картинами на улице Сент-Оноре. Юноша был студент, бедный и так далее. На выставке он увидел картину Моне "Собор в Шартре". Моне тогда еще не был популярен, но студент обладал метким глазом и врожденным чувством красоты. Зачарованный картиной, он отважился войти в помещение и спросить о цене. "Боже мой, - воскликнул торговец, - картина у меня висит уже с каких пор! Могу уступить ее за каких-нибудь две тысячи франков". У студента не было двух тысяч франков, но он имел весьма зажиточных родственников в провинции. Его дядя прямо сказал перед отъездом в Париж, чтобы он, если будет трудно, обращался к нему без колебаний. Так вот, студент попросил торговца в течение недели никому не продавать картину, а сам послал письмо дяде.
У студента в Париже была любовница. Муж у нее был старый, и она скучала. Была глупа, как гусыня, вульгарна, но красива. Бывает и такое. Вечером в тот день, когда студент заинтересовался картиной "Собор в Шартре", она сказала: "Завтра ко мне приезжает из Тулона приятельница, вместе с которой мы были в пансионе. Муж мой занят, у него нет времени на сопровождение, рассчитываю на тебя".
Приятельница приехала не одна. Привезла еще свою приятельницу. И вот три дня студент водил по Парижу сразу трех женщин, платил в кафе, в театре, оплачивал фиакры, давал чаевые. Финансы его не выдержали такого напряжения, пришлось одолжить деньги у коллеги. Когда пришло письмо от дяди из провинции, студент облегченно вздохнул. Немедленно возвратил долг, а на оставшиеся деньги купил подарок любовнице. А "Собор в Шартре" приобрел какой-то коллекционер и через некоторое время в завещании оставил его Лувру.
Студент, который со временем стал известным писателем, теперь уже старый человек. Но сердце у него по-прежнему молодо и точно так же учащенно бьется, когда ему повстречается хороший пейзаж или красивая женщина. Выходя из дому, он часто встречает старую женщину, которая живет напротив. Это его давнишняя любовница. Лицо ее утопает в жире, глаза, некогда такие чудесные, теперь лежат на двух мешочках отвисшей кожи, над верхней губой торчит седой мох. Дама с трудом передвигается на больных ногах.
Встречая ее, великий писатель кланяется и идет дальше. Никогда не останавливается. Знает, что старая женщина наполнена ядом и злобой. Мысль о том, что он любил ее когда-то, теперь для него огорчительна.
Часто заходит он в Лувр, в зал, где висит "Собор в Шартре" Моне. Долго смотрит на картину и вздыхает.
- Какие мы дураки! - засмеялась Тая. - Ты можешь меня поцеловать здесь, перед этими безумными машинами, над вашим спокойным Днепром средь...
Он не дал ей договорить, они стояли и целовались, машины сигналили им, нарушая постановление горсовета о запрещении звуковых сигналов.
- Ты не сказал мне, что любишь меня, - напомнила она потом.
- А ты?
- В этом, конечно, нет никакой логики, но я ради тебя тоже ничего не покинула бы и ничем не пожертвовала бы, хотя... позавчера я прогнала прочь всех тех дураков, которые приехали за мной из Москвы... Но и без тебя, наверное, не смогу теперь... Это - наверное, говорят все женщины, поцеловавшись с мужчиной, но...
- Хочешь, я скажу то же самое? Не боясь банальности.
- Не нужно, тебе не к лицу слова обычные... Но как мы с тобой только что грызлись! Хочешь - расскажу тебе сказочку, услышанную мною в тайге? О зверях.
- Как грызутся? Не нужно. Давай хоть немножко продолжим эту минуту мира, который установился между нами. Если бы мог, я бы остановил время хотя бы на миг. Так, как останавливаются стрелки на больших электрических часах перед тем, как совершить очередной перескок.
- Счастье между двумя прыжками минутной стрелки? - Тая засмеялась.
- Но потом стрелка все-таки перескакивает, гонимая неумолимым течением времени. А мы пытаемся если уж и не догнать или опередить ее, то хотя бы не отстать от нее. Например, я через два дня еду в Западную Германию.
- Куда? - Тая решила, что он шутит. - А почему бы не в Патагонию?
- В самом дело, я еду в Западную Германию. - Борис был совершенно серьезен. - Уже все готово, все документы оформлены, у меня есть билет на самолет Киев - Вена, оттуда - поездом.
- Туристская поездка? Но это же не обязательно. - Она еще надеялась найти какое-нибудь спасение. Потерять его вторично означало, быть может, потерять навсегда. Абсолютная бессмыслица.
- Нет, не турист. Дело моей жизни. Еду на месяц, а может, и больше. В ежегоднике одного западногерманского университета появилась публикация о Софии. Автор публикации - профессор Оссендорфер ссылается на никому не известные документы, которые, мол, находятся в его распоряжении... Короче: отрывок пергаментной хартии, найденный когда-то моим отцом и во время войны отправленный им в институтском сейфе в тыл. Но Бузина и сам туда не доехал, и сейфов не довез... Он продал их или подарил фашистам - все равно. Профессор Оссендорфер, очевидно, тот самый ефрейтор Оссендорфер, который убил моего отца. Вот такая история. Война продолжается... И снова София. Снова отец. Снова я... Удивляюсь, что они так долго молчали. То ли ждали, пока минет двадцать лет со дня окончания войны, чтобы, ссылаясь на установленный ими самими закон, объявить невиновными убийц и своим собственным все украденное и награбленное. Логика убийц и грабителей. А возможно, этот Оссендорфер хотел приурочить свою публикацию к какой-нибудь круглой дате, что он, кстати, и делает, заявляя, якобы Софию Ярослав построил в тысяча шестнадцатом году, потому что в летописях есть свидетельство, что уже в следующем, тысяча семнадцатом году, во время нападения печенегов на Киев, София сгорела. А раз сгорела - выходит, уже стояла до этого. А поставить ее Ярослав мог только между тысяча пятнадцатым и концом шестнадцатого, когда он боролся за власть со Святополком и сел в Киеве на престол. Раз так, то Софии - девятьсот пятьдесят лет. Очень простая логика. Оссендорфер обходит молчанием предположение ученых о том, что первую Софию - деревянную поставила, вероятнее всего, Ольга примерно в девятьсот пятьдесят седьмом году для сохранения креста животворного дерева, которым благословил княгиню константинопольский патриарх. В тысяча семнадцатом году деревянная София сгорела. Это натолкнуло Ярослава на мысль построить каменный собор, потому что ремонт ничего, собственно, не давал. Если даже предположить, что Ярослав в самом деле между шестнадцатым и семнадцатым годами поставил деревянный собор, а затем на его месте соорудил каменный, то ученый не может отождествлять эти два сооружения. Но, видимо, этого господина профессора интересует лишь стремление опередить нас, потому что в шестьдесят седьмом году мы отмечаем девятьсот тридцать лет со дня окончания строительства Софии, так вот, как говорится, получайте девятьсот пятьдесят лет, которые открываю для вас я, профессор Оссендорфер!