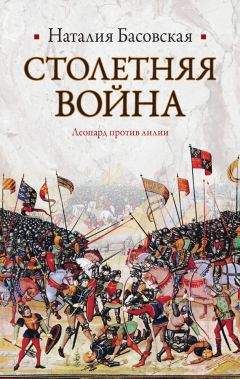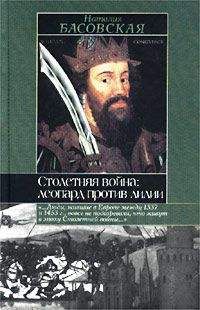Павел Загребельный - Диво
Весь мир залит кровью...
- Ты можешь требовать от людей очень много и сурово, - сказала Борису Тая. - У тебя есть на это право. Страдания всегда дают человеку права. Не понимаю только, почему же ты тогда... в выставочном зале... почему ты отрицаешь право художника выбирать в жизни страдания для своих произведений...
- Потому что жизнь не состоит сплошь из страданий, - сказал Борис.
- Но сколько боли, терпения... Кто же это заметит, если не художник?.. А если он покажет - тогда родится протест. Искусство - это вечный протест...
- Нельзя отделять искусство от людей. Иногда не стоит писать картину или роман или ставить фильм только для того, чтобы показать, что куда-то там своевременно, скажем, не завезли строительных материалов. По-моему, лучше позвонить по телефону и добиться, чтобы эти материалы были завезены; я такого искусства не признаю, его выдумали журналисты или кто-то там, я не знаю кто...
Она вдруг обиделась на эти его слова.
- Кажется, нам больше не о чем говорить. Страусиная болезнь. Спрятать голову и считать, что уже нет ни опасности, ни угроз. Так время от времени в нашей печати поднимается разговор о том, что кто-то написал о том или другом "не так", что художник изобразил "не так", как нужно, не с той стороны, не главное, не полностью и так далее. При этом некоторыми критиками замалчивается существование изображенного явления: было ли оно на самом деле? или нет? В точности как у Горького: да был ли мальчик? Это обходят каким-то стыдливым молчанием. Зато кричат: "А у нас еще есть и то, и это, автор же ничего этого не заметил!". Следовательно, речь идет не о созданном, а о том, что кому-то хотелось бы видеть созданным. А не лучше ли, вместо подобного шума, да позаботиться об упразднении всего огорчительного, всего, что дает материал для критического глаза художника? Ведь замолчанное зло не исчезает само по себе, не перестает быть злом, зато зло названное сразу же теряет половину своей силы. Как вы не можете этого понять?
- При чем здесь я? - пожал плечами Борис. - Мне вовсе не хотелось бы вступать в дискуссии... вот здесь...
- Ах, вот здесь? Хорошо! - Она быстро пошла от него, поднялась на тропинку, не поправила даже прически, рассерженная и обиженная, будто маленький ребенок.
Борис смотрел ей вслед, пока не скрылась она между ветвями.
- Тая, - позвал Борис.
Тая не откликнулась. Тогда он пошел за нею, почти побежал, но все равно не догнал. Увидел ее уже на Днепровском спуске, у поворота на станцию метро, что расположена прямо на мосту через Днепр. Утро было только для самых счастливых людей, и все, казалось, складывалось для величайшего счастья Бориса Отавы, но заканчивалось почему-то, как всегда у него, во всем, неудачей. Он подошел к Тае, остановился возле нее, помолчал немного, спросил:
- Я тебя обидел?
- Нет, нет, - быстро возразила она.
- Но какая-то причина все-таки была, - настаивал он.
- Никакой причины. Просто... - Она умолкла. Расхождение в вопросах об искусстве? Но об этом можно спорить без конца. Рафаэль считал бездарным Микеланджело. Лев Толстой не признавал Шекспира. Писарев перечеркивал Пушкина. Но, несмотря на все споры и мнения, настоящее искусство живет вечно. Но люди... Вот он носит в себе страшную историю о жизни и смерти своего отца. Молчит о себе. Только об отце говорит и думает. Весь мир для него залит кровью. Если его собственная жизнь и не удалась до сих пор, то для этого есть веские причины. А что она? Есть ли у нее о чем рассказать Борису? Банальная история избалованной женщины, если все это изложить словами. Никто не станет сочувствовать. В особенности же он, с его неутешным горем, которое он носит в сердце. А она? Словно балерина в вальсе Равеля. Мистические страдания, которых никто не понимает. "Суждены нам благие порывы". Молоденькой студенткой она влюбилась в своего будущего мужа, который проводил в их институте какое-то там собрание. Выступил на нем, красивым жестом отбрасывал волосы, артистически модулировал голосом. Из министерства, что ли. Позднее узнала: тоже учился когда-то в институте, подавал надежды, но художником не стал, пошел по административной линии, как говорят, смешался с теми врачами и инженерами, которые из студентов выскакивают в служащие. Но на это она не обратила внимания, ей импонировала его солидность, нравились его манеры; как оказалось впоследствии, он был на десяток лет старше ее, у него была уже семья, но что-то там расклеилось, и на это она не обратила внимания; они поженились и в первое время были, кажется, даже счастливы, жизнь летела мимо нее с бешеной скоростью, она попыталась что-то там схватить, надеялась, что муж ей поможет в этом, но он был занят своим, у него было довольно банальное увлечение, присущее многим мужчинам двадцатого столетия: он любил собрания, заседания, ничего больше не знал, и не умел, и не представлял, что кто-то там может ломать голову над тем, как провести кистью по полотну линию или мазок, ибо разве же от этого изменится мир, а вот от заседания, от правильно поставленного и решенного вопроса - это уже другое дело. Входил в старость, должен был стать мудрее, кажется, но и в дальнейшем любил заседания и, если их не было, сам начинал организовывать, благодаря чему всегда где-то бегал, суетился, сидел в прокуренных до седого угара комнатах и приходил домой с чужим дымом в карманах, в волосах, в каждой складке одежды, в каждом рубце. Чужой дым надоедал ей еще больше, чем страсть мужа к заседаниям. Но все это она поняла лишь с течением времени, начала рваться от мужа совершенно неосознанно, стихийно и упорно, а у него не было ни времени, ни характера, чтобы удержать ее рядом с собой. Но в конечном счете она и возвращалась к нему снова, как речка возвращается в старое русло, пометавшись по руслам новым, да так и не найдя ни одного лучшего и более удобного. Надрывно, по-женски, плакала, никому не показывая этих слез. Ах, как хотела бы она, чтобы кто-нибудь вырвал ее из этого неопределенного положения, заставил что-нибудь делать! Женщина, которой хочется рабства! Ненормальность! Но с течением времени она все больше убеждалась, что никому нет дела до нее, что у каждого свои тревоги, свои боли, свои хлопоты, каждого жизнь загоняет в какой-то круг необходимостей и обязанностей, из которых просто невозможно вырваться, а если кто и сумел бы это сделать, то не для нее, а для чего-то высшего, чрезвычайного.
В один из таких приступов тоски по настоящему мужчине, который мог бы повести ее по жизни, заставить что-нибудь сделать интересное и полезное, встретила она совершенно случайно в санатории Бориса Отаву.
Тая ненавидела санаторные встречи и знакомства. Вокруг нее всегда увивались мужчины, которых она чем-то привлекала, сама не зная чем. Всех она ненавидела. Если и выбирала кого-нибудь, то выбирала совершенно неожиданно для них. Ибо никто из них не умел увидеть то, что открывалось ей. Открылось и в Отаве. Не перемолвилась с ним ни единым словом, но уже понимала, что это - необычный человек. Мог быть кем угодно: космонавтом, академиком, чабаном с Херсонщины, лесорубом из Вологды, мыловаром и парикмахером. Это не играло никакой роли. Но он удрал. Позорно и смешно бежал от нее. Она тоже попыталась бежать от него. Не бросилась следом за ним, не поехала в Киев или куда-нибудь еще на Украину. Даже в Москву не стала возвращаться. Написала мужу короткую открытку и направилась через "всю карту" на Курильские острова. Перед тем она уже несколько раз побывала в Сибири, на Камчатке, верхом пересекла монгольские степи, с альпинистами штурмовала Ушбу - все равно не помогало. Теперь плыла на Шикотан. Остров посреди штормящего в течение всего года океана. Ни единое судно не может пришвартоваться к берегу. Тогда делают плашкоут. Что это такое? Обыкновенный деревянный плот, который спускают с судна, потом погружают на него то, что нужно переправить на берег, и несколько сумасшедших, таких, как она, пускаются на волю волн, и их несет к скалам и ударяет о камни, а уж там как получится - кто уцелеет, а кто и... Однако ей повезло, волна была не очень большая, обошлось без плашкоута, суденышко подпрыгивало у причала, правда, трап поставить не удалось, выгружали все, в том числе и людей, при помощи лебедок, она тоже совершила это путешествие в ящике, зацепленном лебедкой, впечатление было очень непривычное, однако для искусства не представляло, кажется, никакой ценности. Картины не напишешь. Да и рассказать кому-нибудь... Навряд ли произведет впечатление...
Но там ей открылась наконец одна вещь. Она поняла, что ей мешало все время, от чего она бежала. Бежала от благополучия. Не создана была для этого. Не любила устроенности, покоя, уюта. Опять-таки сказать об этом невозможно. Будет слишком пышно и неправдоподобно.
- Знаете что? - наконец нарушила молчание Тая и посмотрела на Отаву своими разноцветными острыми глазами. - Мне почему-то показалось, что вы, при всей своей трагичности, которую носите в себе... не знаю, как точнее выразиться...