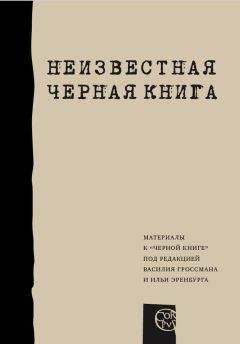Илья Эренбург - ЧЕРНАЯ КНИГА
И снова, в эти короткие мгновения, вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу.
Что это там, за этой огромной шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стеганые, разноцветные, шелковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привез? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается все передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шепотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, — может быть, две-три минуты, пока все прибывшие успеют выйти на площадь. Этот выход всегда сопряжен с задержкой: в каждой партии имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтершарфюрер (унтер-офицер войск СС) громко и раздельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в баню, имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов — брать ли белье, можно ли развязывать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли. Но какая-то странная сила заставляет их молча поспешно шагать, не задавая вопросов, не оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной стене, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками набросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство обреченности, охватывает их — ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами.
А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками (”группа небесковых”) молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемпера, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их — одни отобрать для отправки в Германию, другие, второстепенные, старые и штопанные — для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых штопанных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не дано было ошибаться. 40 эсэсовцев и 60 вахманов работали ”на транспорте”, так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами, стадия: прием эшелона, вывод партии на ”вокзал” и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно для охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами: воды в Треблинке не хватало и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, все еще живые, готовились к ”бане”, работа над их вещами подходила к концу — ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбе, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему новой партии обреченных. Не всегда прием партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда их ведут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломав двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого они в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли на руках четырех детей. И дети эти также были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на ее глазах, когда она работала в поле, были убиты 60 человек, прорвавшихся из поезда к лесу.
Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной охраны. На площади огромный барак, вправо еще три барака, два из них отведены под склады одежды, третий — под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эсэсовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят автомашины, легковые и грузовые, броневики. Впечатление такого же обычного лагеря, как лагерь № 1.
В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью ”Лазарет”. Всех дряхлых, тяжелобольных отделяют от толпы, ожидающей ”бани”, и несут на носилках в ”лазарет”. Из будки навстречу больным выходит ”доктор” в белом фартуке с повязкой Красного Креста на левом рукаве. О том, что происходило в ”лазарете” мы подробно расскажем ниже.
Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей беспрерывными короткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква ”р”, одновременно картавая и твердая, звучит как кнут.
”Ахтунг!” — проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд, слова: ”Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево”.
Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, короткие слова прощания, в которые люди вкладывают всю свою любовь, всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские психиатры смерти знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жен.
И снова над площадью: ”Ахтунг, Ахтунг!”. Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей, запорошить его надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни.
Тот же голос рубит слово за словом: ”Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны”.
И тотчас же снова: ”Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло... Повторяю...”
Внутри женского барака находится парикмахерская — голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: ”Вот тут неровно, подстригите пожалуйста”. Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на потребу Германии. Это было сырье... Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим ворохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей, кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? В письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство — волосы шли для набивки матрасов, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок. Другие свидетели показывают, что волосы шли для набивки подушек кавалерийских седел.