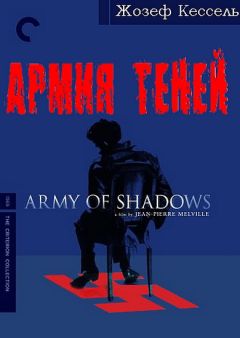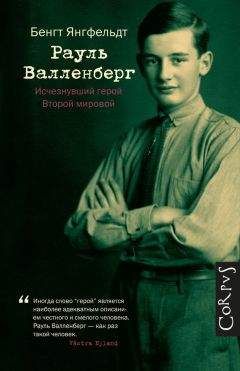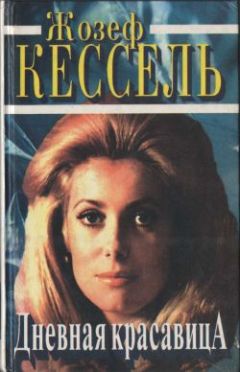Целитель - Кессель Жозеф
Однажды я спросил его: «Доктор, когда вы лечили Гиммлера, вы так же держались, так же вели себя с ним, использовали те же методы?»
Он удивленно посмотрел на меня: «Да, конечно… Так же как и со всеми моими больными».
Конечно, Керстену тогда было на двадцать лет меньше. Но он принадлежал к той категории людей, облик которых, несмотря на отметины времени, чертами и выражением лица, манерой держаться остается таким же, как в молодости. Я всего лишь стер с его фигуры — и это было легко — немного морщин и тяжеловесности и, как наяву, увидел этот первый осмотр.
6
Итак, Феликс Керстен поглубже уселся в кресло, заскрипевшее под его тяжестью, и протянул руки к оголенному тщедушному телу Гиммлера.
Двадцатью годами раньше в Хельсинки главный врач военного госпиталя сказал, что у Керстена руки «добрые». Можно сказать, именно их сила, плотность и мощь продиктовали Керстену выбор профессии, дали ему смысл жизни. Его руки были широкими, массивными, мясистыми, теплыми. На каждом пальце под коротко остриженными ногтями были видны заметные припухлости, они были плотнее и пышнее, чем у обычных людей. Можно сказать, что это были маленькие антенны, наделенные исключительной чувствительностью и остротой восприятия.
Руки задвигались. На одной из них голубоватым огоньком поблескивал камень с выгравированным гербом, дарованным когда-то в XVI веке Карлом V далекому предку доктора, почетному гражданину Гёттингена Андреасу Керстену.
Пальцы скользили по гладкой коже. Их кончики по очереди слегка касались горла, груди, сердца, живота Гиммлера. Прикосновения сначала были легкими-легкими, едва заметными. Потом в каких-то местах они стали задерживаться, тяжелеть, впитывать информацию, прислушиваться…
Природный дар, подкрепленный годами долгого и тяжелого обучения, придал пальцам Керстена проницательность, недоступную другим людям. Но даже этого было совершенно недостаточно. Чтобы искусство, переданное Керстену доктором Ко, обрело свою истинную силу, чтобы мякоть кончиков пальцев была способна передать врачу знания о том, какая внутренняя ткань опасно утолщена или истончилась и какие именно нервы изношены или ослаблены, была необходима абсолютная духовная концентрация — единственное средство, которое могло позволить полю сознания это воспринять.
Задачей Керстена было перестать видеть, перестать слышать. Обоняние тоже надо было отключить. Единственным инструментом общения с миром должны были остаться тактильные антенны (способность которых к восприятию чудесным образом увеличивалась по мере уменьшения других чувств). Весь мир сужался до размеров тела, которое выслушивали и обследовали кончики пальцев. Их открытия передавались разуму, свободному от других забот и закрытому для всех иных впечатлений.
Чтобы достичь этого состояния, Керстену не надо было предпринимать ни малейшего усилия. И даже то, что речь шла о самом Гиммлере, никак не сказывалось. Три года ламаистских испытаний и упражнений, пятнадцать лет ежедневной и ежечасной практики позволяли ему мгновенно достичь необходимой степени концентрации.
И в то же время лицо его удивительным образом изменилось. Конечно, черты лица Керстена остались теми же: тот же высокий и широкий лоб, округлый череп и гладкие темно-русые волосы, уже начавшие седеть. Две параллельные морщинки над тонкими, несколько демонически нахмуренными бровями продолжали подрагивать как сумасшедшие. Глаза, спрятавшиеся под надбровными дугами, оставались все такими же темно-голубыми, хотя иногда становились ярче, почти фиолетовыми. Маленький тонкогубый рот, спрятавшийся между массивными щеками, был чувствительным и чувственным. Длинные уши странного очертания по-прежнему оставались прижатыми к голове.
Да, его черты и фигура были те же. Но внутренние потоки, запущенные Керстеном, в которые он в этот момент погрузился целиком, вдруг изменили его выражение, его облик и, казалось, саму его суть. Морщины разгладились, плоть потеряла вес, губы больше не выдавали в нем гурмана. Веки наконец опустились. Лицо Керстена больше ничем не напоминало написанный старыми мастерами портрет состоятельного рейнского или фламандского буржуа. На смену ему пришел буддийский образ — каких много на Востоке.
Гиммлер, напряженный и судорожно скорчившийся от беспрестанных болей, не отрывал глаз от погруженного в себя Керстена. Какой потрясающий врач! Доктор не задал ему ни одного вопроса. Другие врачи — а их было столько, что он уже потерял счет, — всегда долго расспрашивали его. А он с тем самолюбованием, с каким рассказывают о себе люди, имеющие хронические заболевания, описывал, каждый раз все подробнее, те спазмы, которые заставляют его страдать и отнимают все силы. Каждый раз он пересказывал им то, что произошло с ним в детстве, — два паратифа, две тяжелые дизентерии, серьезное отравление гнилой рыбой. Врачи записывали, думали, спорили. Потом назначали рентген, анализы, обследования, брали кровь. Тогда как этот…
Вдруг Гиммлер испустил резкий вопль. Скользившие по телу пальцы, до этого легкие, как будто бархатные, внезапно сильно нажали на точку на животе, откуда хлынула боль, накрывая его потоком огня.
— Очень хорошо… Не двигайтесь, — мягко сказал Керстен.
Он опять сильно надавил на ту же точку. Внутренности накрыла вторая волна боли, затем еще и еще. Рейхсфюрер тяжело дышал, кусая губы. Лоб покрылся испариной.
— Вам очень больно? — каждый раз спрашивал его Керстен.
— Ужасно… — сквозь стиснутые зубы отзывался Гиммлер.
Наконец Керстен закончил — положил руки на колени и открыл глаза.
— Теперь я вижу… Конечно, это желудок, но боли симпатические. Нет ничего более болезненного, чем спазмы симпатической природы… И ваши напряженные нервы только усиливают это состояние.
— Сможете ли вы мне помочь? — спросил Гиммлер. Его плоское и блеклое лицо выражало смирение, а тусклые глаза молили о помощи.
— Сейчас увидим, — ответил Керстен.
Он поднял руки, расправил кисти и стал разминать ладони и фаланги пальцев, чтобы придать им всю возможную гибкость, эластичность и силу и пустить в действие. Теперь он действовал не на ощупь — он знал, что делать и куда приложить усилия. Глубоко вдавив пальцы в живот своего пациента, он точным движением жестко ухватил плоть, сформировав из нее валик, и начал ее сжимать, крутить, растягивать, увязывать и развязывать, стараясь добраться до пораженного нерва через слои кожи, жира и плоти. С каждым его движением Гиммлер вздрагивал и придушенно вскрикивал. Но в этот раз боль не была слепой и спонтанной. У нее было направление. Как будто у нее появилась цель.
После нескольких манипуляций Керстен опустил руки. Его тело отдыхало, как у боксера между двумя схватками. Он спросил:
— Как вы себя чувствуете?
Несколько секунд Гиммлер не отвечал. Казалось, что он прислушивается к собственному телу и не верит своим ощущениям. Наконец он неуверенно произнес:
— Я чувствую… Да. Это невероятно… Мне стало легче!
— Что ж, продолжим, — сказал Керстен.
Руки — сильные, безжалостные, словно обладающие собственным разумом, — опять взялись за работу. Боль, похожая на потрескивающее пламя, опять побежала по изношенным нервам, как будто по электрическим проводам. Но теперь — хотя слишком сильное надавливание или выкручивание вызывало у него судорожный вздох или стон — Гиммлер поверил. И это доверие помогало врачу.
Минут через десять Керстен остановился:
— Для первого раза достаточно.
Казалось, что Гиммлер его не слышит. Он не двигался и едва дышал. Казалось, он боится, что малейшее движение, малейший вздох нарушит хрупкое внутреннее равновесие. На его лице было написано изумление и недоверие.
— Вы можете встать, — сказал Керстен.
Гиммлер приподнялся так медленно и осторожно, как будто его тело таило в себе бесценное сокровище. Потом он так же осторожно поставил ноги на пол. Брюки с него соскользнули, он сделал инстинктивное резкое движение, чтобы их подхватить. Испугавшись последствий этого движения, он застыл, крепко сжав брюки. Но внутри него ничего не отозвалось — тишина, спокойствие и то ни с чем не сравнимое блаженное состояние, которое может дать только избавление от невыносимых страданий, никуда не делись.