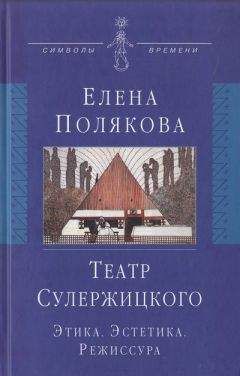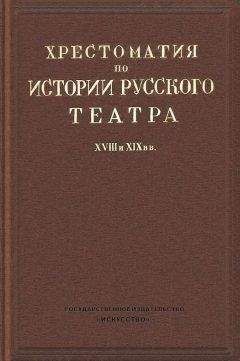Николай Евреинов - Демон театральности
Теперь уже сплошь и рядом услышишь или прочтешь такие отзывы, как «это недостаточно театрально», а «это вполне театрально», «тут мало театральности», а «у такого-то недостаточно благородная театральность» и пр. … О! как быстро идет время (седое время!), когда его за белые космы насильно тащит хотя бы такой шальной юнец, как я. Ведь еще не так давно (весною 1911 года) перед лицом многочисленных свидетелей наш самый, казалось бы, передовой и вместе с тем маститый работник сцены К. С. Станиславский доказывал мне, что театральность — зло в театре, с которым он не ужился бы и минуты!..{28}
Вы, конечно, представляете себе, каково это было выслушать мне, рыцарю театральности, пропевшему гимн фразе и позе еще в 1906 году и пропевшему его столь дерзновенно удачно, что, несмотря на разгоревшийся в то время оппозиционно-политический пыл у большинства, это большинство {37} в день исполнения моего нового гимна (на премьере «Красивого деспота»{29}) обезоруженно вызвало на сцену автора его, проповедовавшего à la longue даже рабство во имя прекрасной театрализации жизни!..
Коснувшись новейшей истории театральности, замечу, что в первый раз, без драматических обиняков, я объявил о театральности, в обратном значении этого понятия, лишь осенью 1908 года, а именно во вступительной речи к труппе театра В. Ф. Комиссаржевской, тотчас же, как нанялся режиссером ее театра на место талантливого В. Э. Мейерхольда, стилизационные принципы которого представились наконец знаменитой артистке началом краха Драматического театра{30}. Эта моя речь под названием «Апология театральности» была (за полной моей подписью) напечатана фельетоном в газете «Утро» (ред. И. Василевского) в том же 1908 году.
Далее, основные положения театральности я предпосылал как предисловие, на трех лекциях о монодраме (в Москве и в Петербурге) в 1908 и 1909 гг. В последнем, 1909 году, свое краткое credo о театральности я формулировал в анкетной книге «Куда мы идем» (изд. «Заря» 1910 г.) следующими словами:
«Мы присутствуем при последней вспышке искания смысла жизни вне прекрасного в строго эстетическом отношении. Близкое будущее явит нам всеобщее признание смысла художественного произведения исключительно в его форме; недолго ждать, пока наиупрямейшие будут чтить ее как истинное содержание искусства, а все остальное (внехудожественную идею, фабулу и пр.) лишь балластом, “от лукавого”. Оправдание жизни через прекрасное, через искусство, воспримется и глубоко, и прочно. А раз в искусстве форма станет содержанием, мы обратим уродливую внешность жизни в невиданную и неслыханную красоту. Театр будет новым учителем. Отеатралить жизнь — вот что станет долгом всякого художника. Появится новый род режиссеров — режиссеров жизни. Перикл, Нерон, Наполеон, Людовик XIV… их ждет еще новая оценка в истории — оценка театрально-режиссерская».
Несколько других моих статей, появившихся за последнее время в журналах «Театр и искусство», «Аполлон», «Театр», «С.‑Петербургские театральные ведомости», «Ежегодник императорских театров», «Театральный день», «Против течения», «Маски» и др., неуклонно отстаивали с тех пор главенство чистого сценизма в театре, т. е. самодовлеющей театральности. Однако окончательно обособить, вернее, противопоставить проблему эстетическую проблеме абсолютно театральной, другими словами — разграничить принципиально самые сферы эстетического творчества и театрального, мне удалось лишь совсем недавно, а именно в 1911 году (за несколько месяцев до напечатания в «Против течения» моей статьи ex cathedra{31} «Театрализация жизни»{32}).
Улыбаюсь, размышляя о сроке, в который это знаменательное для грядущего разграничение станет внеспорным для моих современников, станет для них столь же ясным и понятным, как стремление моего сверхрежиссера отодвинуть рампу сцены, где он топчется с горстью актеров, до края света, {38} где нет уж больше действующих, и на сценируемую им комедию жизни смотрят одни только звезды — они же рампа, они же зрители.
Сейчас я говорю о режиссуре жизни и театрализации ее с таких высот, что вряд ли, за шумом фабрик, гудками автомобилей, стуком арифмометров и уличным гвалтом, меня услышат внизу, если я обойдусь без звонкой трубы! вряд ли заметят, если я не облекусь в некий наряд Арлекина, невероятный для «настоящей» жизни, невыносимый для современных «точек зрения»!
А потому к черту «полутона» и скромный наряд проповедника!
На страницах этой книги вы увидите меня неизменно с рупором, крепко прижатым к накрашенным губам, увидите одетым в непривычно яркий наряд, звенящий бубенцами, и «между строк» заметите следы моих веселых ног, искушенных в искусстве пляски, церемонных поклонов и не медлящих с пинками по адресу тех, кто слишком глуп и скучен.
Я трублю вам призыв на представление вашей собственной жизни.
Тра‑та‑та!..
Звените, мои бубенчики!..
Апология театральности
{39} Я прекрасно знаю, что обращаюсь к читателю, уже несколько уставшему от всевозможных новых теорий сценического искусства, — к читателю, который на опыте уже изверился в совершенном практическом применении всех этих теорий. И хоть душа его еще не отворачивается брезгливо от модных картинок нашей театральной неразберихи, жажда вечного в искусстве должна современную душу томить с каждым часом все больше. Действительно, живя в эпоху какого-то невероятно напряженного искания театральной истины, мы слышим такую разноголосицу в понимании существенных задач сценического творчества, какой — насколько я знаю историю театра — никогда до сих пор не существовало. И странно, время как будто удвоило скорость своего бега, и то, что вчера еще казалось нам неопровержимым как аксиома, сегодня уже возбуждает сомнение, а завтра, может быть, сдастся в архив документов сценических исканий как некая нелепость, как заблуждение. Помните слова доктора Штокмана о том, что истины не живут мафусаилов век, а, как и обыкновенные люди, стареют, дряхлеют и умирают{33}. И театральные истины уж, разумеется, не составляют исключенья из этого парадоксального положения. Следуя этой же ибсеновской аналогии, я мог бы прибавить: и для истины нужно время, чтобы она стала в наших глазах жизнеспособной, и, может быть, даже много времени для такого, чтобы мы могли признать ее зрелость. Слишком уж эфемерна истина при своем рождении, и потому слишком опасно сразу же возлагать на нее свои надежды.
Существуют истины настолько зрелые, настолько очевидные, что добиваться их торжества, их всеобщего признания не только можно, но и должно революционным путем. И, напротив, существуют истины настолько тщедушные, настолько сомнительной жизнеспособности, что другого удела, как эволюционного, было бы просто неблагоразумно для них требовать. Мы знаем, сплошь и рядом, Wunderkind{34} не становится Wundermensch’eм{35}: это справедливо в применении и к истинам. Есть истины-вундеркинды, относительно которых мы должны быть крайне сдержаны в своих увлечениях и упованиях. Живым нравоучением да послужит В. Э. Мейерхольд, который, не успев еще как следует распустить дерзкие крылья на твердо решенном, казалось, пути своего творчества, признал печатно ряд ошибок, совершенных им в театре Комиссаржевской{36}; чистосердечный, он не мог не сознаться уже после своей постановки «Пеллеаса {40} и Мелизанды»{37}, что круг исканий в области данного условного театра им завершен. Я умышленно говорю: «данного» условного театра, так как театр, по-моему, никогда не был, да и не мог, пожалуй, быть другим, как условным, какой бы ультранатурализм ни культивировался на его подмостках, ибо, как бы последовательно ни стремился театр к самой настоящей правде, — место и время действия в нем все-таки останутся условными. И мисс Мод Аллан{38}, исполняющая полунагая танец из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона в настоящем лесу, и та даже не может претендовать на безусловность выбранной ею обстановки.
В искусстве все условно, поскольку одно выдается за другое. Между художником и зрителем к моменту эстетического восприятия безмолвно заключается договор, некий tacitus consensus{39}, в силу которого зритель обязывается к такому, а не иному отношению к эстетической видимости, а художник — к поддержанию во всеоружии такого отношения. В театре зритель должен рассуждать: «Это — полотно, но такое, которое я охотно принимаю за небо», и если он не соглашается на это, то в том виновен или декоратор, не сумевший дать искусного намека на небо, или актер, взирающий на такое «небо», как на тряпку, или, наконец, зритель, лишенный эстетической восприимчивости, требующий настоящего неба, а не поддельного.