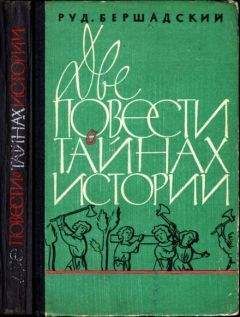Е Мурина - Ван Гог
На самом деле все обстояло совсем не так. Желаемое Ван Гог, целыми днями рисовавший Син и ее детей, со свойственным ему пылом принимал за действительное, стремясь на шатком основании этой воображаемой семьи и "мастерской" построить здание своего нового искусства.
Ван Гог называл этот готовый каждую минуту разорваться союз "реальностью", так как он действительно пережил как реальность, а не идею, не мечту, полноту единства жизни и работы, которая как непрерывный поток, не имеющий ни начала, ни конца, ни результата - результат всегда остановка, - омывает жизнь и превращает искусство в процесс живого общения с миром. "Мои рисунки сделаны мной и моей моделью" - это не фраза. В беспрерывном рисовании Син, которая всегда рядом, живет здесь бок о бок и постепенно превращается из "воплощения" скорби, из женщины, похожей "на одну из тех фигур, которые рисовали Холл или Филдс" (Р. 20, 301), в живую, грубоватую, с вульгарными манерами Син, на которой, однако, ее прошлое оставило глубоко драматический неповторимый след, - смесь независимости, цинизма и беспросветного отчаяния. Мы видим Син с ребенком на коленях (F1067, Амстердам, музей Ван Гога), Син-хозяйку ("Женщина, чистящая картофель", F1053a, Гаага, Муниципальный музей), Син, полную вызова ("Син с сигарой, сидящая у печки", F898, музей Крёллер-Мюллер), Син в отчаянии ("Женщина, охватившая голову руками", F1060, там же), Син молящуюся ("Женщина за молитвой", F1053, там же) и т. д.
Никогда уж более Ван Гог не имел возможности так полно удовлетворить свой интерес к рисованию "фигуры", как в эти несколько месяцев работы с Син. Это было то счастье самоотождествления с натурой, ради которого он взялся за карандаш и ради которого он пошел на жертвы, закрыв глаза на то, что его "мастерскую" постоянно лихорадила угроза краха. Угроза заключалась не только в нищете и полном "остракизме", которому был подвергнут Винсент всеми его близкими, но и в самой Син, которой надоело позировать и которая вновь начала стремиться к привычной для нее жизни. После ряда скандалов с ее недостойной семьей, втянувшей Ван Гога в свои низкие интриги, эта "реальность" распалась.
Вместе с нею рухнула и вся гаагская система идей, которая уже давно расшатывалась от соприкосновений с действительностью. Порвав последовательно связи со всеми, кто его не понимал, - сначала с близкими, потом с художниками и, наконец, со своей моделью, - Ван Гог вынужден убедиться в невозможности быть таким "человеком среди людей", каким должен быть по его представлению художник, создающий новое искусство, искусство, "постигающее сердце народа", живущее его интересами.
Удар был слишком тяжким, разочарование слишком глубоким. Дальнейшее пребывание в Гааге не имело уже никакого смысла. Он уезжает на север страны, в провинцию Дренте, и навсегда оставляет и свои идеи и своих героев - городскую бедноту. В Дренте, среди полей и работающих крестьян, которых он рисует и пишет, у него рождается новый замысел. Но все, сделанное в Гааге, остается исчерпанным, не нашедшим в последующей работе непосредственного продолжения. Теперь он будет "крестьянским художником".
Однако значение этой встречи с Син было огромно: впервые Ван Гог проявил свою способность воспринимать и закреплять в искусстве как реальность созданную его воображением жизненную ситуацию. Этот опыт войдет как существенный момент в его последующие начинания.
В Гааге Ван Гог попробовал было обойти все мастерские, чтобы узнать, чем занимаются художники. Результаты этого знакомства оставили его более чем равнодушным, хотя гаагская школа живописи повлияла на его первые шаги в качестве живописца. Уже в сентябре 1882 года он сообщает Раппарду, что порвал все связи с художниками. "В прежние времена отношения между художниками были иными; теперь же они заняты взаимопоеданием, стали важными персонами, живут на собственных виллах и тратят время на интриги. Я же предпочитаю жить на Геест или любой другой улице в бедном квартале - серой, жалкой, нищенской, грязной, мрачной; там я никогда не скучаю, тогда как в богатых домах прямо извожусь от скуки, а скучать мне совсем не нравится.
И тогда говорю себе: "Здесь мне не место, сюда я больше не приду. Слава Богу, у меня есть моя работа" (193, 96).
Даже в тех редких случаях, когда ему удавалось найти общий язык, как, например, с Антоном Мауве, у которого он, пользуясь своими родственными связями, брал уроки, - конфликт был неизбежен. Мауве, неплохой пейзажист, обладавший хорошей школой пленэрной живописи, подходил к Ван Гогу с общепринятыми мерками. И когда на настоятельные требования своего учителя рисовать с "антиков" Ван Гог отвечает решительным отказом, отношения обрываются.
Отчужденность между Ван Гогом и художественной средой Гааги имела не только внешние, но и внутренние причины, касающиеся самых основ его творчества.
Если представители демократического реализма, такие, как его любимые английские рисовальщики из "График" или Израэльс, Лермит, Менье и другие, которых он в этот период, конечно, наряду с Милле искренне считал своими, связывали темы народной жизни и трудящегося человека с традиционным понятием реализма, как оно сложилось во второй половине XIX века, то Ван Гог ставит эти темы в связь с новым восприятием, видением и языком короче, со своей особой "эстетикой", которую его современники воспринимали как антиэстетику, - так решительно непохоже было то, что делал Ван Гог, на окружающее искусство.
Ведь сама по себе тематика Ван Гога не нова, так же как не новы и поиски новых средств художественной выразительности. Ново их сочетание, рождающее особый вангоговский стиль, не имеющий себе аналогов в современном ему искусстве.
Задача Ван Гога заключалась не в том, чтобы выразить психологию определенных людей, людей труда или таких, как он, страдающих от равнодушия и лицемерия общества. Ему нужно было такое искусство, которое само по себе будет выражением определенной психологии и определенной творческой позиции. Оно должно быть способом самораскрытия и образом самораскрытия - пусть это требует на данном этапе от него отождествления себя с теми, кого он любит и наравне с кем страдает.
Ван Гог не только живет среди своих героев - сначала гаагской бедноты, шахтеров, потом ткачей и крестьян Брабанта. Он хочет быть таким же, как они, и сохранять в своих работах "топорность", якобы характеризующую грубость трудовых рук, создающих не предметы роскоши, как понимают картины ненавистные ему торговцы искусством, а производящих жизненно необходимые процессы, вроде труда пахаря, ткача, жнеца... Пусть искусство рождается там, где гнездятся горе и тревоги большинства. Пусть оно производится на свет таким же способом, как труд этих горемык, и пусть это будет видно! Он хотел в самой манере исполнения утвердить это понимание искусства, во всем, как и он сам, противостоящего существующим канонам и нормам. Не потому ли у него вызвали недоверие художники, которые "живут в своих виллах и ведут интриги...". Ван Гог убежден, что написать такую улицу, как Геест, может только тот, кто живет на ней, кто подходит к подобной задаче "изнутри".
Ван Гог в первую очередь доносит до зрителя усилие, которое он вложил в свой рисунок и которое заполнило этот самозабвенно прошедший кусок жизни, ушедший на борьбу с натурой и материалом.
Это определяет его изобразительный стиль. Форсированные контуры, грубый нажим, неуклюжие фигуры, концентрирующие в себе весь пространственный "потенциал" фона и, как правило, активно наступающие на зрителя, - вполне отвечают его убеждению в том, что "в рисовании, как и во всем, лучше пережать, чем недожать". Усилия труда изображаемого и его собственные усилия, когда он изображает, сливаются в единую пластическую тему. Он как бы работает в унисон с тем, кого он изображает. И этот момент самоотождествления с моделью, натурой, сознательно выбираемыми им как наиболее созвучные его настроениям и мыслям, становится для него необходимым стимулом. Традиционные мастера со времен Ренессанса проникают в объект творчества благодаря познанию и знаниям, организующим их восприятие. Ван Гог достигает единства благодаря особому состоянию озарения, "психотехника" которого во многом напоминает - особенно с годами - некий ритуал психологического и духовного слияния с окружением - людьми, пейзажем, предметным миром.
Особые предпосылки вангоговского понимания искусства приводят к тому, что перед ним возникают трудности, не ведомые художникам традиционного типа. Его исключительный интерес к искусству как способу самораскрытия поставил перед ним проблему аутентичности - приведения языка искусства в подлинное и полное соответствие с его личностью, с необходимостью "выразить все то, что я хочу, в соответствии с моим собственным характером и темпераментом" (177, 83). Установить прямую связь между языком духовного мира, на котором личность сознает себя, и объективно предметным языком изображения, получаемого с натуры (это был метод его работы), - задача новая, невиданная и до конца, по-видимому, неразрешимая. Идея "перевода" себя на язык искусства в чем-то напоминает задачу перевода поэзии, который едва ли способен достичь адекватности первоисточнику. Различия языков превращаются здесь по существу в непреодолимую преграду, поскольку в поэзии способ выражения - слово - и то, о чем говорится, являют собой одно и то же.