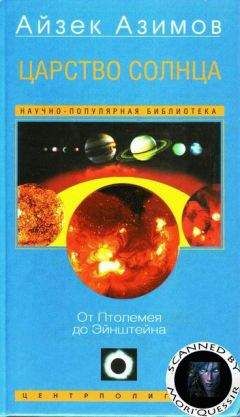Михаил Терентьев - История эфира
В августе 1793 года Конвент постановил закрыть Французскую Академию — практическая польза от нее была невелика, а многие ее члены «утратили гражданскую добродетель». Такие люди, как Лаплас, в самом деле отличались «недостаточностью республиканских добродетелей и слишком слабой ненавистью к тиранам». В течение короткого периода наука и политика вошли в тесное пересечение. Но углубляющаяся революция, начав с катастрофических перегибов, вплоть до казни людей, составляющих славу французской нации, в конечном счете вызвала общественные движения, которые привели к возрождению интереса к знаниям, к созданию замечательных учреждений, способствовавших бурному развитию наук и неожиданным открытиям начала XIX века. Среди таких учреждений были Нормальная, потом Политехническая школы (1794), а также Национальный Институт (1795), который заменил упраздненную Академию и должен был, среди прочего, «собирать открытия, совершенствовать науки и художества». Любопытно, что Наполеон во время Египетского похода подписывал свои прокламации так: «Бонапарт, главнокомандующий, член Института», считая, по свидетельству историка Тэна, что подобное сочетание титулов «... будет понятно последнему барабанщику».
Из Политехнической школы вышли Малюс, Френель, Араго, о которых нам еще придется говорить, а кроме них, Фурье, Копта, Гей-Люссак, Пуассон и многие другие. Но все это уже в XIX веке, а сейчас — несколько штрихов к проблеме эфира в физике XVIII века. Ньютоновское действие на расстоянии, ньютоновская эмиссионная теория света (свет — поток корпускул, излучаемых светящимся источником), ньютоновское абсолютное, пустое пространство — все это к концу века превратилось в ортодоксию. Личный авторитет Ньютона способствовал отрицанию эфира. Тонкие нюансы в его позиции были забыты. Генеральную линию последующего развития в предисловии ко второму изданию «Принципов» (1713) решительно сформулировал Роджер Коте, осудив введение субстанций, свободно проникающих в поры тел, поскольку они ведут к химерам и пренебрежению к правильному устройству тел. По Котсу, есть три лагеря:
— ньютонианцы, которые основываются на экспериментах и наблюдениях, которые признают действие на расстоянии и существование пустоты;
— аристотелевцы и схоласты, которых вообще нельзя серьезно обсуждать;
— картезианцы, которые заполняют пустоту вихрями и тонкой материей во вред истинной научной философии. Все истинные ученые, конечно, в первом лагере. Независимо от того, «виноват» ли Ньютон непосредственно в становлении новой ортодоксии или, что ближе к истине, она явилась результатом искажений и односторонней интерпретации его высказываний по гносеологическим вопросам, но в итоге его авторитет служил существенным фактором для подобной ориентации физики XVIII века.
Но гораздо важнее, чем авторитет Ньютона, было то, что все существующие факты действительно укладывались в механическую концепцию — атомы (или корпускулы), между которыми действуют силы на расстоянии. Явления разного круга обычно требовали введения корпускул своего сорта, для света — световые корпускулы, для тепла — «калорики», другие материальные носители — для положительного и отрицательного электричества, для северного и южного магнетизма и т.д. Отдельные типы частиц могли обладать способностью образовывать конденсированные состояния, при этом природа населялась жидкостями разных сортов. Считалось, что силы между частицами зависят только от расстояния и являются конечной целью исследования. Бели типы сил установлены, то законы ньютоновской механики в принципе позволяют дать ответ на любой вопрос, касающийся состояния вселенной. Бели бесконечный разум знает положение и скорость каждой частицы, он может предсказать будущее развитие до бесконечности — так формулирует ситуацию Лаплас, и мы узнаем демокритову «сквозную причинность». Такие представления разделялись лучшими умами на рубеже XVIII и XIX веков и были не просто метафизической концепцией, как у античных авторов, но служили рабочим аппаратом для количественного объяснения разнородных фактов.
Прежде всего благодаря англичанину Дж. Дальтону (1766-1844), атомы превратились в реальность химических лабораторий после того, как возникла концепция атомного веса и были определены атомные веса многих элементов. Нечто аналогичное тому, что Дальтон сделал в теории строения вещества, в оптике совершили шотландец Г. Брухэм и француз Ж. Б. Био. Приняв корпускулярную теорию света и опираясь на законы механики, Брухэм смог количественно описать некоторые тонкие явления и вычислить (используя явление дифракции) размер световых корпускул, связанных с лучом определенного цвета. Почти одновременно Био снабдил корпускулы свойством полярности, представляя их как элементарные вращающиеся магнитики, и описал законы отражения, преломления, а также явления окрашивания тонких пленок. Предполагать волновые свойства оказалось ненужным излишеством — наблюдаемая в некоторых опытах периодическая структура возникала как вторичный эффект из-за взаимодействия корпускул с атомами вещества.
В электричестве и магнетизме после исследований Ш. Кулона (1788) тоже возникла полная количественная теория стационарных явлений. Согласно закону Кулона, элементарные частицы электрической жидкости с зарядами Q1 и Q2 взаимодействуют на расстоянии R с силой F = kQ1Q2/R2. Считалось, что между магнитными частицами действует такая же сила, только постоянная k — другая. Внешняя аналогия с ньютоновским законом бросается в глаза, поэтому действие на расстоянии находило еще одно подтверждение. Попытки детального описания электрических и магнитных явлений привели к необходимости вводить в картину всевозможные усложнения в зависимости от ситуации. Так, электрические жидкости двух сортов (+ и —) должны были свободно циркулировать внутри вещества и притягиваться частицами весомой материи, но магнитные жидкости были связаны в отдельных молекулах вещества, скажем, молекула железа представлялась состоящей из двух полусфер, одна из которых заполнена жидкостью северного, другая — южного типа.
К концу XVIII века ни у кого не было сомнений, что ограниченного числа типов жидкостей и частиц достаточно, чтобы объяснить все разнообразие наблюдаемых фактов. За внешней сложностью скрывается по существу простая картина: корпускулы в пустоте и центральные силы между ними.
Этот воображаемый мир обрушился в первые десятилетия XIX века. От него не осталось ничего, кроме феноменологических законов, выводимых непосредственно из эксперимента и формулируемых на языке математики. Ньютоновское кредо «гипотез не измышляю» казалось бы вновь подтвердило свою правильность. Но вскоре на обломках старого возник новый воображаемый мир, и эфир возродился, как Феникс, уже на идеях непрерывности. На другом, более глубоком уровне понимания природы, физические качели опять повторили цикл.
Интересно, что еще до того, как внутри самой физики появились серьезные сомнения в буквальной справедливости описанных выше представлений, в германской натурфилософии возникла система, в которой были глубоко проанализированы общие ограничения возможностей человеческого познания. Из нее, в частности, следовало, что мир атомов, взаимодействующих в пустоте, принципиально может рассматриваться как не более, чем удобная для определенных целей, но временная модель, как приближение к непознаваемой действительности. Речь идет о «Критике чистого разума» (1781) и «Метафизических основаниях естественных наук» (1783) Иммануила Канта. Мотив платоновской пещеры возродился и вновь зазвучал в блестящей аранжировке. Бели для Ньютона время и пространство были независимыми от человеческого разума объектами, реальными творениями Бога, то, согласно Канту, это инструменты, которыми оперирует человеческий мозг, постигая внешний мир. По Канту человек сам накладывает связи между событиями, представляя их в пространстве-времени. Плодотворность мысленных концепций определится тем, ведут ли они к новым открытиям и новым причинным цепочкам. Но на основании эмпирических данных, так или иначе обработанных разумом, узнать «действительные» свойства внешней реальности невозможно. То, что разум может знать о материи, имеет малое отношение к тому, чем она является «на самом деле».
Является ли представление об атомах в пустоте законным и отражающим способности разума познать реальность? Ответ Канта на этот вопрос — твердое «нет». По поводу концепции пустоты он, в частности, пишет: «Я не имею в виду отвергать пустое пространство: оно может существовать вне пределов достижимости ощущений, и поэтому никакого эмпирического знания о нем нельзя получить, такое пространство не является возможным объектом нашего опыта». Чтобы понять его отношение к приписыванию атомам реальных свойств типа размеров, формы, упругости и пр., по аналогии с макроскопическими телами повседневного опыта, можно обратиться к многочисленным примерам, которые дает современная атомная физика, где невозможность наглядных представлений связана с самой ее сущностью. Наука XX столетия прекрасно укладывается в ложе кантовской философии.