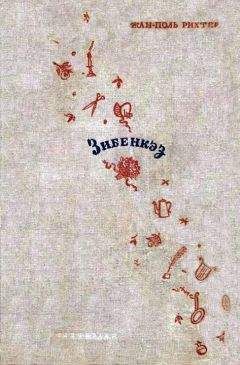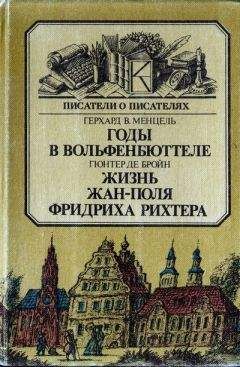Григорий Свирский - На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986
Еще один страж человеческой безопасности на наших глазах кончает жизнь самоубийством. Что оно творит, время, и с ними, со стражами?!
Бежавшего Вадима задержали быстро. На пароме. А на берегу алеет в эту минуту косынка девушки — любви его, убежденной, что все хорошо…
И снова — частушечная, пьяно-разгульная, полная отчаяния концовка. Она становится, эта тупая рас-сейская частушка, постоянным рефреном. Глумлением над человеческой мечтой и над этой «нормальной» жизнью.
По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда тебя несет,
Железяка херова…
Нет ни лишнего слова. Ни лишней сюжетной «петли», хотя повествование уходит то в дальний русский городок, а то и вовсе в Среднюю Азию, куда уезжают Антонина, дочь Петра Лашкова, с мужем и Ося, сын дантиста Меклера. Бегут, сломя голову бегут хорошие люди, — подальше от государственного скотства, от людей-зверей. И здесь, в Средней Азии, где «кругом степя и очень ветра», как пишет Антонина отцу, автор снова связывает своих героев тугим сюжетным узлом. Вроде бы раскидало героев. А никуда не денешься. Страна — лагерь. Думал Ося Меклер, строит он что-то нужное людям. И вдруг узнает, что возводит тюрьму… «Выходит никуда от них не уйти». Ося повесился в уборной, не в силах снести подлой вести. Антонина, полюбившая Осю, опять осталась одна.
И снова лейтмотив книги, на этот раз, по контрасту, и не дурашливый и не частушечный; и тем сильнее впечатляющий…
«Вот и я говорю, — шумно вздохнул комендант, — стоило вашим дедам начинать эту заваруху, чтобы только сменить надзирателей?»
Хлопотал, хлопотал бывший комиссар Петр Лашков о спасении Вадима из дурдома, да так и не выхлопотал… «Пожалуй, впервые в жизни он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы, которая, наподобие ваты, беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимей всего. И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжем окорока…»
Вглядываясь в пучину бедствий, он вдруг вспомнил Председателя Чека Аванесяна, когда тот не дал в обиду Парамошина, солдата, убившего человека, чтоб выломать у него золотые зубы. Сказал он тогда, Лашков, Председателю Чека:
«— А не боишься?.. Чего? Парамошина…
— Скрутим, когда понадобится, — ответил Аванесян. — А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда со всеми рассчитается. За все».
Многое разглядели мы вместе с Петром Лашковым в перевернутый бинокль; очень точно навел его автор, не надо более шарить читателю по горизонту…
Когда возвращалась из Средней Азии дочь Антонина с сынком, родившимся от Оси Меклера, позвал Петр Васильевич шабашника Гусева, бывшего своего врага, подготовить помещение. В разговоре с Гусевым «вдруг встала вся судьба целиком, век, прожитый им, прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал».
Выйди роман «Семь дней творения» в шестидесятые годы, когда был написан, он, думается, серьезно ускорил бы прозрение читающей России.
…Я был бы счастлив поставить здесь точку. Однако сделать это не вправе. По крайней мере, по двум причинам, значения книги В. Максимова не умаляющим.
К одному из своих недоумений, вызванных не только «Семью днями…», но и всем творчеством Владимира Максимова, я позволю себе вернуться позднее. О втором — поговорим здесь.
У великого спасителя отечественной литературы — самиздата — есть, увы, и теневая сторона. Писатель, автор самиздата, обретает свободу, но одновременно он, за редким исключением, теряет широкую профессиональную среду, которая может помочь нелицеприятным замечанием, советом, а порой и серьезным анализом рукописи. «Каждый, кто критикует твою рукопись до ее выхода, — твой друг, — весело говорил режиссер-кукольник Сергей Образцов. — Кто после выхода — твой враг…»
Горстка друзей, читающих рукопись самиздатчика, озабочена более всего безопасностью автора и рукописи, а не стилистическими или сюжетными огрехами ее. Это обстоятельство оказало, не могло не оказать, свое влияние и на Владимира Максимова.
Уже в «Семи днях…» вдруг спотыкаешься, на самой первой странице, скажем, на фонетическую глухоту, назойливое «мычание» фразы: «И Мысли, вялые и случайные, словно ветошь в МутноМ оМутке Мысли». В авторскую речь начинает проникать воровской сленг: «…чистое, без обычного марафета лицо ее», «малолетки» и проч. В дальнейшем Вл. Максимов, не замечая этого, все чаще засоряет авторский язык «блатной музыкой», как называют на Руси сленг уголовников. Как из рога изобилия, сыплются в «Прощании из ниоткуда» «мамки», «педики», «чужовка», «кодла».
«Семь дней творения», к счастью, почти не тронута коррозией безвкусицы.
«Карантин» — книга многословная, неточная по языку, созданная пером торопливым, хотя, по правде говоря, можно понять автора, который после публикации на Западе «Семи дней…» ежечасно ждал обыска, ареста, конфискации всего, что не припрятано.
Атмосфера эта, по себе знаю, для работы — не лучшая.
У каждого летчика, пусть он налетал миллионы километров, есть своя рекордная высота или рекордный маршрут. Чарлз Линдберг первым перелетел через океан, Валерий Чкалов — через Северный полюс. У летчиков-космонавтов пылилась под ногами… Луна.
Есть свой рекордный маршрут и у Владимира Максимова. «Семь дней творения» — мужественный, ярко-талантливый роман о крушении рабочей династии Лашковых, ради которых и совершалась Октябрьская революция; подлинно философский роман о кровавом подлоге, который все еще называется по привычке «диктатурой пролетариата», российского пролетариата, и через шестьдесят лет после окончательной победы — нищего, до отчаяния бездуховного, одураченного и спаиваемого диктатурой.
Могли ли руководители диктатуры, обездолившей Лашковых, как-либо иначе ответить Владимиру Максимову, высказавшему им в лицо — ни много ни мало! — «Семь дней творения»?
В лучшем случае, в минуту откровения, может быть, повторили бы мысль ссыльного секретаря обкома партии немцев Поволжья Гекмана, который, раз и навсегда, отвернулся от правды, не желая «зачеркнуть своей жизни…»
Нет, нечего им возразить писателю.
«…За действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Максимова В. Е.».
9. Новое поколение литературы сопротивления
Новое для России явление самиздата, участие в нем известнейших писателей, от Паустовского до Солженицына, магнитофонная революция и поток так называемой «тюремной литературы» — все это вызвало немедленный отклик среди молодежи.
То в одном, то в другом месте появляются машинописные журналы, которые вряд ли отличались бы от обычных школьных или студенческих «изданий», если бы впоследствии за эту машинопись не давали тюремных сроков. Подобных журналов было тогда намного больше, чем принято думать. Молодежь не могла и не хотела молчать. Я знаю несколько рукописных школьных журналов 1956 г., в одном из которых передовая начиналась с детской непосредственностью:
«Сталин — гад!»
В 1956 году перепуганные воспитатели лишь всплескивали руками. В 60-х, увы, замелькали газетные заметки «из зала суда»; только от них и начался отсчет рукописного бунтарства.
Первые машинописные журналы молодежи — «Синтаксис» и «Бумеранг».
«Синтаксис» составил Александр Гинзбург, «Бумеранг» — бывший студент-историк Владимир Осипов, исключенный из университета в 59-м году за публичный протест против ареста своего однокурсника.
«Синтаксис» выпускался зимой и весной 60-го года. «Бумеранг» — в ноябре. Вскоре появился и машинописный журнал «Феникс-61», вдохновителем и редактором которого был молодой поэт Юрий Галансков.
Распространялись также «Сфинксы», поэтические сборники совсем юных с несколько претенциозным названием «СМОГ» (Сила, мысль, образность, глубина»).
Молодежь выходит на площадь. Не на Сенатскую. На площадь Маяковского в Москве.
Я был свидетелем разгона одной такой молодежной демонстрации. После чтения стихов на площади Маяковского толпа человек в двести отправилась к Союзу писателей СССР, чтобы заявить о своем праве участвовать в духовной и литературной жизни.
В разгон демонстрации включилась служба охраны посольств, расположенных на улице, служба особая, оснащенная радиопередатчиками, которых тогда еще не было у простых милиционеров. Буквально через несколько минут подъехали черные «Волги», и организаторы демонстрации были мгновенно, с профессиональным умением, брошены в легковые машины и увезены. Демонстранты, оказавшиеся без вожаков, были рассеяны.