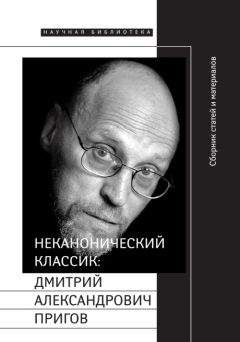Сергей Серебряный - Писатели Востока — лауреаты Нобелевской премии
Для меня тайна писательского труда заключена не во вдохновении, которое совершенно непонятно откуда приходит, а в упорстве и в терпении. В турецком языке есть хорошее выражение — «копать колодец иголкой»; порой мне кажется, что это сказано про писателей. Я люблю и понимаю терпение Ферхада, который прорубает горы во имя любви в старых сказках. Я знал, что, рассказывая в своем романе «Мое имя — Красный» о средневековых художниках — мастерах миниатюры из Ирана, которые, рисуя годами со страстной любовью одну и ту же лошадь, выучили ее наизусть и могли изобразить ее необыкновенно красиво даже с закрытыми глазами, я говорил о профессии писателя и о собственной жизни. Мне кажется, что для того чтобы суметь неспешно рассказать о собственной жизни как об истории других людей, чтобы суметь почувствовать в себе эту повествовательную силу, писателю нужно, терпеливо сидя за столом, долгие годы отдавать себя этому искусству и ремеслу, с оптимизмом воспринимая будущее. Ангел вдохновения, который к одним совсем не приходит, а к другим заглядывает очень часто, любит эту уверенность и оптимизм, и в тот момент, когда писатель ощущает себя самым одиноким, когда больше всего сомневается в значимости своих усилий, мечтаний и того, что он написал, то есть когда он считает, что его история является только его собственной историей, этот ангел как будто вручает писателю рассказы, картины, фантазии, объединяющие тот мир, который он хочет построить, с миром, из которого хочет выйти. Чувство, удивляющее меня более всего в писательском труде, — это мое ощущение того, что не я сам, а какая-то другая сила нашла некоторые предложения и целые страницы, которые сделали меня чрезмерно счастливым, и щедро вручила их мне.
Я боялся открыть чемодан отца и прочитать его тетради, потому что знал, что он никогда не будет «нагружать» себя теми сложностями, которые взваливаю на себя я, что он, в отличие от меня, предпочитающего одиночество, любит товарищей, толпу, залы, шутки, общество. Но потом я подумал и другое: эти мысли, мечты о затворничестве и терпении могут являться лишь плодом моего воображения, проистекающим из собственного жизненного и писательского опыта. Ведь было же много и таких блистательных писателей, которые творили среди толпы, в безмятежном кругу семейной жизни, в блеске света высшего общества и среди его счастливого щебетания. К тому же мой отец, когда мы были маленькими, заскучав от повседневной обыденности семейной жизни, оставил нас и уехал в Париж, где, закрывшись от всего света в комнате отеля, исписал груду тетрадей, подобно тому, как это делают многие другие писатели. Я знал, что в чемодане находилась только часть тех тетрадей, потому что отец еще задолго до того, как прийти в мою контору с чемоданом, начал мне рассказывать о том периоде своей жизни. Он рассказывал мне об этом и в моем детстве. Но никогда не касался мук творчества, которые он испытывал в гостиничном номере. Его рассказы были посвящены Сартру[286], которого он часто видел на парижских улицах, книгам, которые читал, и фильмам, которые смотрел. Он рассказывал с волнением и искренностью, как человек, который сообщает очень важные сведения. И конечно же, я всегда хорошо помнил о том, что выбором своей профессии я прежде всего был обязан отцу, который рассказывал мне больше о всемирно известных писателях, чем о паша́х[287] и служителях мусульманского культа. Вероятно, думая обо всем этом и вспоминая о том, скольким я обязан его большой библиотеке, я должен был прочитать его тетради. Я должен был, не придавая большого значения художественной стороне написанного им, обратить внимание на то, что мой отец, живя с нами, частенько хотел остаться в комнате один, наедине с книгами и собственными мыслями.
Но, глядя в смятении чувств на чемодан, оставленный отцом, я понимал, что это как раз то, что я не могу сделать. Отец иногда вытягивался на диване, который стоял напротив книжных шкафов в библиотеке, и, забыв о книге или журнале в своей руке, погружался в долгие, глубокие раздумья. В такие моменты у него было совершенно другое выражение лица, абсолютно не похожее на то, которое я видел в повседневной жизни, наполненной шутками, колкостями и мелкими ссорами. Это был взгляд, обращенный внутрь себя. Меня беспокоил этот взгляд особенно в детстве и ранней юности, когда я уже начал понимать, что отца что-то тревожит. Сейчас, спустя годы, я знаю, что эта тревога и является одной из главных движущих сил, делающих человека писателем. Чтобы стать писателем, должен быть стимул, который способен сподвигнуть человека к тому, чтобы сбежать от толпы, общества, будничной жизни и закрыться в комнате. Если мы хотим сотворить глубинный мир с помощью письма, то желание скрыться от людей в комнате, заполненной книгами, и является той первой, необходимой вещью, которая заставляет нас действовать. Примером такого уединения является творчество великого Монтеня[288] — человека свободного и независимого, прислушивавшегося лишь к голосу собственной совести и положившего начало современной литературе. Монтень был тем писателем, которого читал, не уставая возвращаться вновь и вновь, мой отец и которого настойчиво советовал почитать и мне.
Мне хотелось бы ощущать себя сопричастным традиции писателей, которые в любой части света, будь то на востоке или на западе, порвав все связи с обществом, закрылись в комнате с книгами. Для меня местом, в котором начинается настоящая литература, является человек, уединившийся в комнате, полной книг.
Однако в комнате, где мы закрылись, мы не остаемся одни, как это кажется на первый взгляд. Нас сопровождают слова, истории, книги других людей, то есть то, что мы называем традицией. Я верю, что литература является самым ценным накоплением, которое создало человечество, чтобы понять самого себя. Человеческие сообщества, племена и народы умнеют, богатеют и возвышаются в той степени, в какой они придают значение своей литературе и прислушиваются к собственным писателям. В то же время, как все мы хорошо знаем, народы, сжигающие книги, унижающие и оскорбляющие писателей, на долгие годы остаются в темноте и невежестве. Но литература не может замыкаться исключительно в узконациональных рамках. Точно так же как и писатель, закрывшийся в комнате с книгами и отправившийся в путешествие в глубь себя, не может писать только о себе, о собственных чувствах и ощущениях. На протяжении многих лет он будет открывать неотъемлемое правило хорошей литературы: литература — это мастерство и искусство рассказывать истории других, как собственные, и собственные истории, как истории других. Чтобы суметь это сделать, мы и отправляемся в путь, отталкиваясь от историй и книг других людей.
У моего отца была прекрасная библиотека, состоящая из тысячи пятисот книг, которых должно было с лихвой хватить для того, чтобы стать писателем. К двадцати двум годам я, конечно же, не прочитал все книги из этой библиотеки, но с каждой из них был хорошо знаком, разбираясь, какая является важной, а какая предназначена для легкого, увеселительного чтения, какая является классикой и неотъемлемой частью мировой литературы, а какая — незабываемым, но развлекательным образцом той или иной национальной литературы, какая относится к французской словесности, представителей которой так любил и ценил мой отец. Иногда, глядя на эту библиотеку, я мечтал, что и у меня однажды в своем отдельном доме будет такая библиотека, что я тоже буду создавать из прочитанных книг собственный, особый мир. А иногда отцовская библиотека казалась мне маленькой картинкой всего мира, мира, на который мы смотрели из нашего угла, из Стамбула. Мой отец собирал библиотеку, привозя иностранные издания из заграничных поездок, в основном из Парижа и Америки, покупая книги на западных языках в Стамбуле. В 1940-е и особенно в 1950-е годы он не пропускал ни одной новой и старой книжной лавки. А с 1970-х годов я сам уже начал создавать собственную библиотеку, тщательно, с большими претензиями отбирая для нее книги. Я тогда еще точно не решил, что стану писателем. Но, как я написал в своей книге «Стамбул», уже точно понял, что не буду художником, правда совершенно не представляя при этом, по какому руслу потечет моя будущая жизнь. С одной стороны, во мне были бесконечный интерес ко всему и очень оптимистичная жажда чтения и знаний, а с другой — я чувствовал, что моя жизнь в определенной степени имеет недостаток, «изъян», что я не смогу жить так, как живут другие. Частично это мое чувство было связано с мыслью о нахождении в отдаленности от центра и было сродни тем эмоциям, которые возникали во мне, когда я смотрел на библиотеку моего отца. Частично же оно было связано с ощущением того, что мы живем в провинции, как в те годы нам всем отчетливо давал понять Стамбул. Но, видимо, главная причина моего «изъяна» лежала намного глубже: я совершенно не представлял свою жизнь в стране, которая не проявляет интереса и не оставляет надежды своим художникам слова и кисти. Когда в 1970-е годы с безудержным рвением, словно желая исправить этот свой жизненный недостаток, я покупал у букинистов Стамбула на деньги, которые мне давал отец, зачитанные, пыльные книги с выцветшими страницами, то жалкий вид букинистов оказывал на меня не меньшее воздействие, чем сами книги, которые я собирался прочитать. Эти люди в бедной, ветхой одежде, стоявшие по краям дороги, во дворах мечетей, у разрушенных стен, выглядели настолько несчастными и унылыми, что способны были внушить человеку полную безнадежность.