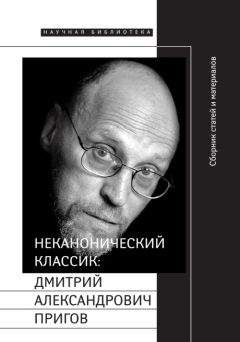Сергей Серебряный - Писатели Востока — лауреаты Нобелевской премии
Другой временной уровень романа — это три дня, проведенные Ка в Карсе, а также несколько месяцев до смерти, прожитые им в Германии по возвращении из Турции, то есть рожденный воображением писателя Орхана фиктивный мир на основе собранных сведений. Постепенно два временных уровня начинают переплетаться, входить друг в друга, представляя собой, как и всё произведение, амбивалентное единство реального и вымышленного. Писатель Орхан приезжает в Карс и ощущает нереальность города и его жителей. Он «ходит по безмолвным улицам, словно во сне». Он представляет себя героем романа 40-х гг. В городе ничего не меняется, даже некоторые рекламные щиты остаются теми же самыми. Только жители «еще больше стали смотреть телевизор, а безработные, вместо того чтобы идти в чайные, сидят дома и бесплатно смотрят фильмы всего мира через спутниковые антенны-тарелки. Все накопили денег и повесили на окна по одной из таких белых антенн-тарелок величиной с кастрюлю, и за четыре года это было единственной новинкой в городе»[282].
Постепенно поиски писателем Орханом рукописи Ка трансформируются в поиски самого себя в лабиринте собственного сознания. Писатель Орхан начинает ощущать в себе своего друга, представлять себя на его месте, «превращаться в его тень». Он влюбляется в Ипек, поражаясь тому, что она намного красивее, чем он представлял.
Используя активно автоцитации и повторы в духе постмодернистских предположений и реализаций, Орхан Памук настраивает читателя на мысль о том, что за смертью персонажа неминуемо следует смерть писателя Орхана (автора). Писатель Орхан ведет повествование о Ка не напрямую, а опосредованно, рассказывает уже рассказанное, написанное или запечатленное на кинопленке. Иными словами, он воспроизводит копию (цитату, повторение), которая, в свою очередь, ассоциируется с романом «Снег» самого Орхана Памука. Роман оборачивается симуляцией, «смертью автора». Закономерны в этом смысле заключительные слова писателя Орхана о своем романе: «Вообще-то никто такому роману и не поверит»[283]. Симптоматично, что и книга стихов Ка — тоже симуляция, фикция, поскольку она бесследно исчезла.
Орхан Памук и в этом случае не размыкает фиктивное двойничество (автор — персонаж), показывая насколько реальной стала условность, насколько в современном мире хаоса теряются жизненные опоры и ориентиры, отчетливые и завершенные формы. Писатель не выдвигает стратегии выхода из культурного и мировоззренческого кризиса, не предлагает идеи, способные центрировать картину мира, «собрать человека».
Творчество Орхана Памука воплощает в многовекторном турецком постмодернизме меланхолическую тенденцию, которая отражает разочарование в ценностях эпохи модерна, с учетом данных шизоанализа оценивает исторический прогресс, исповедует исторический пессимизм и в то же время печальное «примирение» с историей (по мнению Орхана Памука, она вообще может прекратиться, если деструктивные тенденции исторического развития в технотронную эру примут необратимый характер). Меланхолический постмодернизм Орхана Памука очень печальный и пессимистический. Писатель отвергает всякие иллюзии относительно «светлого будущего» Турции и человечества вообще, ориентирует на индивидуальный поиск спасения.
Орхан Памук
ЧЕМОДАН МОЕГО ОТЦА
Нобелевская лекция
За два года до смерти отец передал мне маленький чемодан со своими статьями, рукописями и тетрадями. Напустив на себя как обычно иронично-шутливый вид, быстро проговорил, что он хочет, чтобы я прочитал это после него, то есть после его смерти.
Потом, слегка смущаясь, добавил: «Посмотри, есть ли там что-нибудь стоящее, может быть, после меня что-то выберешь и опубликуешь».
Мы были в моей конторе[284], среди книг. Отец, как человек, желающий избавиться от очень личного, наводящего тоску груза, не зная, куда ему деть чемодан, озирался по сторонам и ходил по комнате. Затем осторожно поставил в самый дальний, не привлекающий внимания угол. Как только этот незабываемый момент, смущавший нас обоих, закончился, мы облегченно вздохнули, вернувшись к нашим привычным ролям шутливо-насмешливых людей. Мы, как обычно, говорили о всякой ерунде, не очень огорчаясь, коснулись нескончаемых политических неурядиц в Турции, дел моего отца, которые в большинстве случаев кончались неудачей.
Помнится, что после того, как отец ушел, я несколько дней ходил вокруг чемодана, не дотрагиваясь до него. Я знал этот маленький черный кожаный чемодан, его замок, круглые края с самого детства. Отец всегда брал его с собой, когда отправлялся в непродолжительные поездки или когда ему надо было что-нибудь перенести из дома на работу. Помню, как однажды в детстве, открыв этот маленький чемодан, я рылся в вещах отца, вернувшегося из очередной такой поездки. Мне очень понравился одеколон, который я из него извлек. У него был запах неизвестной, чужой страны. Чемодан отца был для меня знакомой и притягательной вещью, связанной с прошлым и детскими воспоминаниями, но сейчас я даже не мог до него дотронуться. Почему? Конечно же, из-за таинственной ценности тайного груза, находящегося внутри него.
О значении этой ценности, о значении того, что человек делает, закрывшись в комнате, сев за стол и полностью отдавшись перу и бумаге, то есть о значении литературы, я и собираюсь сейчас рассказать.
Я не дотрагивался до чемодана и никак не решался его открыть, но некоторые из тетрадей, которые в нем лежали, я хорошо знал. Много лет назад я видел, как отец что-то записывал в них. Однако сейчас, впервые в жизни я не имел представления о значимости груза в чемодане. У отца была большая библиотека. В молодости, в конце 1940-х годов, в Стамбуле, он хотел стать поэтом, переводил на турецкий язык Валери[285]. Но потом передумал, поскольку не хотел жить в постоянной нужде, сопровождающей поэта в нищей, мало читающей стране. Мой дед — отец моего отца — был богатым предпринимателем. Детство и юность отца прошли в достатке, поэтому он не хотел испытывать материальные трудности, являющиеся непременным атрибутом литературного творчества. Отец любил жизнь во всей ее красоте, и я его понимал.
Первое, что меня сдерживало от того, чтобы открыть чемодан отца, это естественный и объяснимый страх перед тем, что он написал. Содержание чемодана вполне могло мне не понравиться. Отец тоже это понимал. Поэтому и старался изо всех сил придать этой истории несерьезно-шутливый оттенок, что меня изрядно огорчало, поскольку в чемодане содержался плод его 25-летней писательской деятельности. Но, конечно же, мне не хотелось сердиться на отца из-за того, что он не воспринимал литературу в достаточно серьезной степени… И все же самым главным моим страхом, самой главной вещью, о которой я даже не хотел думать, была возможность того, что мой отец мог оказаться действительно хорошим писателем. Так как я боялся именно этого, я не мог открыть чемодан. Более того, я боялся признаться в этом даже самому себе. Потому что если из отцовского чемодана появилась бы действительно великая литература, то это потребовало бы от меня признания отца совсем другим человеком, что пугало, поскольку даже в свои зрелые годы я хотел видеть в отце только отца, а не писателя.
Для меня быть писателем означает, что пишущий, терпеливо работая годами, открывает в себе другого, скрытого человека, а также мир, который формирует этого другого. Когда я говорю слово «писание», перед моими глазами прежде всего встают не романы, стихи и литературная традиция, а человек, который закрылся в комнате, сел за стол, обратился в одиночестве к самому себе и благодаря этому построил новый мир с помощью слов. Этот мужчина или эта женщина может пользоваться пишущей машинкой, может прибегнуть к помощи компьютера, а может, подобно мне, в течение тридцати лет писать авторучкой на бумаге. По мере писания он или она может пить кофе, чай, курить сигарету. Иногда этот человек может вставать из-за стола и смотреть через окно на улицу, на играющих там детей, на темную стену, а если повезет, то на деревья или пейзаж. Он может писать стихотворение, пьесу или, как я, роман. Все эти различия приходят только после главного действия, после того, как он сядет за стол и терпеливо погрузится в себя. Заниматься написанием литературного произведения, переводить этот обращенный внутрь себя взгляд в слова означает терпеливое, упорное и счастливое прохождение через самого себя, исследование в себе нового мира, связанного с другим человеком. По мере того как я сижу за своим столом, медленно заполняя пустую страницу новыми словами, по мере того как проходят дни, месяцы, годы, я чувствую, что строю в себе этот новый мир подобно тому, как строят мост или купол мечети, аккуратно укладывая камень на камень. Камни писателя — это слова. Дотрагиваясь до них, ощущая их взаимосвязь, иногда наблюдая за ними издалека, иногда словно гладя их нашими пальцами и кончиком нашей ручки, определяя их вес и соответствующим образом размещая, мы годами с упрямством, надеждой и терпением строим новые миры.