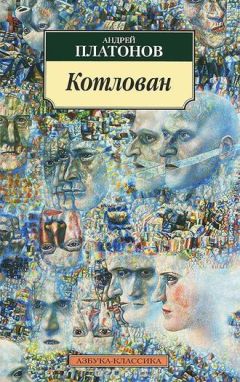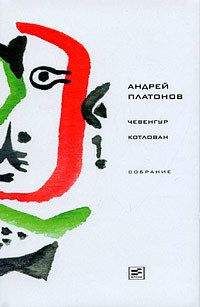Наталья Дужина - Путеводитель по повести А.П. Платонова «Котлован»: Учебное пособие
Лавкомы (лавочные комиссии) — это органы рабочего контроля за деятельностью кооперативов, которые были введены как реакция на многочисленные злоупотребления в их руководстве: манипуляции с карточками, распределение дефицитных товаров по личным каналам, плохое качество и хранение продаваемых товаров, а чаще их полное отсутствие и пр. Однако вскоре после введения лавкомов в печати появляются сообщения о том, что лавочные комиссии не справляются с задачами рабочего контроля над кооперацией: они «сращиваются с кооперативным аппаратом и становятся участниками преступлений»[39]; звучит даже требование «перешерстить лавкомы, чтобы отсеялись все шкурники»[40]. Председателем такого лавкома и был Козлов, а следовательно, и имел натуральное продовольствие дополнительно к пенсии по 1-й категории.
Свой социализм Козлов, таким образом, уже построил. Поэтому Козловым гордился профсоюзный лидер Пашкин, который, глядя на Козлова, «верил в тот близкий день, когда весь пролетариат примет образ авангарда своего: это и будет социализм» (64). Для окончательного построения социализма остальным рабочим осталось повторить путь первопроходца Козлова, который дает «ближним землекопам» напутственное пожелание: «Не будьте оппортунистами на практике!» (64). Эту реплику Козлова комментаторы платоновской повести связывают с конкретными партийными документами, причем достаточно поздними[41]. Однако на самом деле она восходит к устойчивым газетным оборотам типа «оппортунизм в теории и на практике», «теоретические основы правого уклона и оппортунизм на практике» и др., например: «Усилим вооружение ленинского комсомола в борьбе с оппортунизмом в теории и на практике»[42]; «Партия ведет борьбу и против теоретических основ правого уклона, и против оппортунизма на практике»[43]; «Усилим огонь по теории и практике правого уклона»[44]. «Оппортунизмом на практике» во время разгара борьбы с Н. Бухариным и группой правых называлось обычно лояльное отношение к «кулакам» и их пребыванию в колхозах. Так что призыв к землекопам «не быть оппортунистами на практике» направлен, мягко говоря, не по адресу, а Козлов опять достаточно бессмысленно использует политическую терминологию.
Определенным образом характеризуют Козлова и те «лозунги-песни», которые он заучил и любил произносить, например: «Прелестна вы, как Ленина завет!». В стране, выполняющей «первую пятилетку по строительству социализма», не только «кричали голоса ударных бригад» (112), но и пели тысячи «синеблузных» коллективов и артистов эстрады. Проблема их музыкального репертуара была настоящей головной болью работников культурного фронта. Журнал «Культурная революция» пишет: «Музыка — самая заброшенная область художественной работы союзов, ей уделяется меньше всего внимания. <…> Здесь процветает халтура, здесь торжествуют идеологически чуждые и вредные влияния»[45]. Основная проблема эстрадников — отсутствие музыки и текстов революционного содержания или механическая связь с этим самым революционным содержанием. Журнал приводит и образец такой механической связи — слова песни в духе тех, что любил повторять Козлов («Прелестна вы, как Ленина завет»): «Сердце-то в партию тянет»[46]. Козлов — не Сафронов и не Вощев; у него нет ни твердой идеологической установки, которая могла бы защитить от вредных влияний; ни ума и вкуса, которые оградили бы от пошлости.
Платонов через имя дает Козлову определенную характеристику: доносчик; кляузник, обуреваемый комплексом власти; ночной рукоблуд и «рвущаяся вперед сволочь»[47]. Но некоторые черты этого социально-психологического типа раскрываются только на фоне политической повседневности: нетвердая ориентация в событиях окружающей жизни, но зато четкая направленность на свои личные интересы; начетничество при отсутствии понимания, но в соединении с умелой манипуляцией формально усвоенными словами; глубинная пошлость и отсутствие всяких принципов.
Следующий типичный представитель этого времени — безногий инвалид Жачев. После двух войн, империалистической и гражданской, таких искалеченных людей в стране хватало, и положение их было тяжелым — мизерные пенсии выбрасывали из жизни тех, кто сделал революцию. Платонов дает Жачеву несколько определений: «жирный калека», «могучий увечный», «урод империализма», «безногий инвалид». Из всех этих характеристик самым эмоционально окрашенным и даже возвышенным кажется слово «увечный», но именно оно и было официальным термином для фактических изгоев общества. Несмотря на очевидность и необратимость увечья, такие люди регулярно проходили экспертизу инвалидности. Журнал «Вопросы страхования» (1929, № 2) под призывом «Добиться улучшения экспертизы инвалидности» публикует фотографию одного из них: безногий человек в кабинете врача и подпись «Увечник на приеме в БВЭ» (БВЭ — больница врачебной экспертизы). Однако действительные инвалиды типа Жачева (многие из которых были участниками гражданской войны) не только регулярно проходили экспертизу инвалидности, но часто вовсе не могли ее получить в отличие от «инвалидов» вроде Козлова.
Искалеченность Жачева и отсутствие у него половины туловища для Платонова, безусловно, символичны: Платонов неоднократно подчеркивает, что Жачев — «урод империализма». Эта аллегорическая деталь почему-то важна писателю[48].
В положении Жачева Платонов акцентирует его «выброшенность», а в позиции — неуемное чувство социальной справедливости; непримиримость ко всему, что чуждо революции; оппозиционность. Жачев, который считает себя «по человечеству лучше», облагает собственным налогом «достаточных лиц», т. е. советских функционеров; он мечтает убить «всех больших жителей своей местности, <…> оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство»; за все его разоблачительные высказывания в адрес «новых буржуев» Жачева осуждает «носитель официальной идеологии» Сафронов, призывая «всецело подчиниться производству руководства». Последнее обстоятельство очень важно: в этих упреках «верного ленинца» Сафронова А. Харитонов услышал отзвуки политических дискуссий 20-х годов, а в личности и позиции самого мятежного обвиняемого — сходство с главным оппонентом Сталина — Л. Д. Троцким. Харитонов подчеркивает, что свою борьбу со Сталиным Троцкий строил на обвинениях в «обюрокрачивании рабочего государства» и расслоении в рядах правящего класса при сталинском режиме, появлении среди коммунистов высокооплачиваемых функционеров-бюрократов, положение которых разительно отличается от положения коммуниста, работающего в угольной шахте и получающего 50–60 рублей в месяц. В распоряжении таких коммунистов-функционеров, а фактически «новых буржуев», имеются автомобили, хорошие квартиры, пайки, партмаксимумы и пр. Подобные взгляды высказывает и Жачев. Харитонов отмечает, что «Жачев и личными своими чертами походит на „неистового Льва“: он беззастенчив, по-своему красноречив, склонен к демагогии»; «он, как и Троцкий, фанатик революции». Даже в фамилии героя отозвалась изначальная жесткость позиции Троцкого в вопросах коллективизации и индустриализации. И, безусловно, немаловажным объединяющим моментом в судьбе крупнейшего политического деятеля (фактически второго лица в государстве) и безногого героя платоновской повести является именно «вы-брошенность»: в 1929 г. Троцкого, одного из организаторов революции и победы в гражданской войне, выставили из страны. Троцкий, конечно, не является в привычном смысле прототипом Жачева. Его тема — лишь часть образа Жачева и лишнее свидетельство «ориентации писателя на идеологический контекст эпохи», а также особых принципов построения платоновского образа и многоплановости его художественного текста.
Председатель окрпрофбюро Лев Ильич Пашкин — главный объект нападок Жачева. Лев Ильич является тем высокооплачиваемым функционером-бюрократом, которых критиковала и «левая оппозиция». Пашкин «состоит в авангарде», т. е. является членом партии, и при этом живет «в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть» (38), ездит на автомобиле и получает паек. Пашкин исключительно дисциплинированный коммунист и откликается на все директивы партии. Его «добросовестность» в исполнении «нового лозунга» профсоюзной работы «лицом к производству» мы показали выше: «близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле как ко всякому производству». Не оставил без внимания он и второй лозунг профсоюзной работы — «ближе к массам». Во исполнение этого требования Пашкин, как сказано у Платонова, «научно хранил свое тело». На его рабочем столе «находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности», из которых профсоюзный лидер время от времени выпивал по капле. И делал он это «не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс» (39).