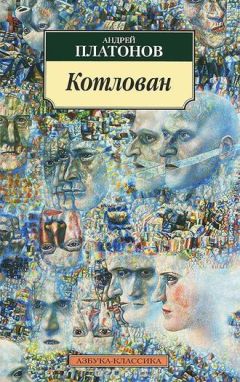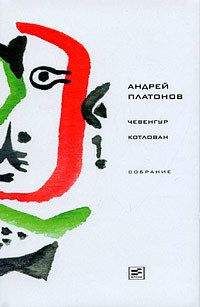Наталья Дужина - Путеводитель по повести А.П. Платонова «Котлован»: Учебное пособие
Наименование объекта, на котором трудится артель строителей, постоянно изменяется: «единственный общепролетарский дом», «общепролетарская жилплощадь», «общий дом пролетариату», «единый новый дом» и др. И по смыслу «общепролетарский дом» — образ многоликий: его смысловой компонент вариативен, поэтому границы того, что артель строит, все время передвигаются. Это и новый дом, в котором «детский персонал» будет «огражден от ветра и простуды каменной стеной» (58). И новый город, который возникнет на месте старого. И город — двигатель ускоренной индустриализации, форпост построения социализма. И социализм «в рамках одной страны». И социализм в мировом масштабе. И такое общественное устройство, которое избавит человека от страданий и спасет от голода, болезней, трагедий и бед. И страна под названием Союз Советских Социалистических Республик, которая должна стать раем на земле — «эсесерша наша мать», земля обетованная всех трудящихся, «общий дом пролетариату». Так реализация метафоры превращается у Платонова в обобщение многих тем и проблем эпохи, а обычный строительный объект — в сложный аллегорический образ, который охватывает все теоретические аспекты и практические особенности «построения социализма» в нашей стране.
Строительство «обшепролетарского дома» — стержень сюжета «Котлована» и, пожалуй, наиболее трудная для комментирования часть содержания. Главная трудность заключается в том, что Платонов создает свой образ с учетом многозначности языкового понятия «дом». Так, слово «дом» в русском языке имеет следующие значения: 1) «жилое здание» (например, каменный дом); 2) «свое жилье; семья, люди, живущие вместе» (например, родной дом); 3) «место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями существования» (например, общеевропейский дом)[59]. Но писатель не просто опирается на эти привычные для слуха сочетания со словом «дом» и их общеупотребительную семантику. Он использует тенденцию языка к метафорическому переосмыслению данного слова, увеличивая функции своего «общепролетарского дома» за счет политических коннотаций[60] всего выражения. Вторая сложность, с которой сталкивается комментатор стержневого события «Котлована», является следствием иносказательности всех коллизий строительства «общепролетарского дома», которое к тому же предполагает две формы: строительство воображаемое и фактическое. Определенные затруднения вызывает и необычное построение сюжетообразующего образа: «общепролетарский дом» имеет в повести человеческую ипостась — это девочка Настя. Обратимся сначала к «дому», всем формам его представления в «Котловане» и возможным интерпретациям данного образа.
Дом, на строительство которого попадает главный герой повести, должен стать для будущих жильцов надежным укрытием от непогоды, «чтобы дети там росли и жили, защищенные стенами и людьми» (193). «Дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой» (33). Дом должен быть построен «вместо старого города», где есть еще «бедные жилища и скучные условия, а также кладбища» (191) и люди живут «дворовым огороженным способом» (32).
Данные фрагменты интересны в том плане, что в каждом из них актуализированы разные словарные значения лексемы «дом» — характерный для Платонова прием. В первом случае дом, о котором идет речь, — это «жилое здание»; во втором — «место, где хорошо и тепло и люди любят друг друга», в третьем — «место, где живут люди, объединенные общими условиями существования». Три приведенные выше характеристики будущего дома можно рассматривать как вариации на темы нового быта и оптимального устройства новых социалистических домов и городов, которые обсуждались на страницах периодической печати и были взяты за основу в некоторых реальных строительных проектах. Общепролетарский дом, изображенный в таком ракурсе, — вполне реалистический образ. На это его качество обратила внимание Эл. Маркштейн, которая пишет, что «общепролетарский дом у Платонова <…> имеет вполне реальный прототип в действительности»[61] в лице одного из тех домов-коммун и городов-коммун, которые в это время строили по особым проектам и с особой целью — изменить быт и создать лучшие условия для жизни и воспитания нового человека. Маркштейн приводит названия некоторых таких проектов (по сборнику «Из истории советской архитектуры 1926–1932 гг.»): «Проект социалистического расселения», «Дом-коммуна», «Квартал-коммуна», «Город-коммуна», «Жилище пролетария».
Но все-таки «общепролетарский дом», как неоднократно подчеркивалось в литературе о «Котловане», — не столько реалистический образ, сколько символ. Он опирается, как мы писали выше, на общую тенденцию языка к метафоризации ключевого слова, а также на ключевые метафоры сталинской эпохи «строительство социализма» и «здание социализма»: Платонов использует существующую в языке модель типа «общеевропейский дом», но наполняет ее новым политическим содержанием. С символической стороны «общепролетарский дом» предстает в следующих ситуациях:
«Единственный общепролетарский дом» предназначен для всего пролетариата данного города. Но «общепролетарский дом» — лишь первый шаг на пути к более совершенному строению, башне в середине мира, которую построят после дома и «куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всего земного шара» (32).
Строительство в городе «единого здания», в которое «войдет на поселение весь местный класс пролетариата», М. Геллер и А. Харитонов рассматривают как аллюзию[62] на сталинское построение социализма в одной, отдельно взятой стране. Эту идею Сталин развивал в полемике с Троцким и его теорией «перманентной (непрерывной) революции», охватывающей сразу весь мир и переходящей из страны в страну. Проблеме распространения социализма Сталин уделяет внимание в некоторых работах середины и второй половины 1920-х годов: «Об основах ленинизма» (1924), «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» (1924), «К вопросам ленинизма» (1926), «Международный характер Октябрьской революции: К десятилетию Октября» (1929) и др. Полемизируя с оппозицией (так называемым «троцкистско-зиновьевским блоком»), Сталин настаивает на возможности «победы социалистического строительства» сначала в одной стране, которая должна стать «очагом социализма в океане империалистических стран»[63] и «базой мировой революции»[64]. В параллель с этими планами поэтапной победы социализма (сначала «в рамках одной страны», а затем «в мировом масштабе») могут быть поставлены и мечты Прушевского о башне в середине мира, которую построят после «общепролетарского дома» уже для «трудящихся всего земного шара». Таким образом, удвоенный «общепролетарский дом» размышлений Прушевского — «единый дом» в центре города / «башня в середине мира» — несет печать актуальной для времени политической полемики и отражает теоретические предпосылки социализма как новой организации жизни, исключающей зло и страдания. Поэтому «общий дом пролетариату» — прежде всего идеальное сооружение, предназначенное для счастья всех людей. Значимо то, что к возведению его артель строителей так и не приступила.
Однако у социализма существует не только идеальный, но и реальный аспект. И реальное «здание социализма» в жизни все же строится. Одновременно оно поднимается и в платоновской повести. В «Котловане» есть еще один «дом», который обычно рассматривают как разновидность «общепролетарского»: вскоре после своего прибытия в Город Вощев наблюдает за строительством неизвестной башни (обратим внимание на эту деталь: тоже башни). Она-то и имеет черты реально строимого «здания социализма».
Эта башня отчасти построена: «рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения» (26). Наблюдение за строящейся башней позволяет Вощеву осознать побочный эффект «строительства» (фрагмент, сокращенный писателем на стадии правки машинописи): «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? <…> Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?» (26, 184). Мысль о негативных последствиях и бесчеловечном характере «социалистического строительства» еще более резко и наглядно выражена в словах Сафронова. Постройку «общепролетарского дома» он описывает так: «Мы все свое тело выдавливаем в общее здание (зачеркнуто. — Н.Д.) для общего здания» (41, 213). Идею этих фрагментов Платонов повторяет неоднократно, создавая картину почти телесного перехода людей в возводимые ими сооружения.
На эмоциональном уровне образ понятен: так как в нищей стране не было ни средств, ни ресурсов, «строительство» (социализма, страны, городов, промышленности и пр.) осуществлялось только за счет колоссального напряжения сил «строителей». Они трудятся с утра до позднего вечера, часто по ночам и в выходные дни; работают до изнеможения, а изнемогают до смерти; отдают «общему дому» всю свою энергию, изнуряют и калечат тело. И только так «здание» сооружается — из самих строителей, превращающихся в «строительный материал». Языческими корнями социализма объяснил М. Золотоносов такую строительную практику, назвав строителей «общепролетарского дома» «строительной жертвой, принесенной в настоящем во имя будущего». Любопытно, однако, что в столь необычном восприятии «социалистического строительства» Платонов не одинок — для человека 1920-х годов это было, видимо, общее чувство. Комментируя соответствующие фрагменты «Котлована», М. Золотоносов приводит свидетельство одного из представителей того поколения, к которому принадлежал и Андрей Платонов: «Весь трагизм нашего поколения в том и заключается, что оно было дважды строительным материалом, дважды — лишь средством, а не целью, не самоцелью. Но пришло время — и в сознании современника идет обратный процесс»[65]. Критик развивает эту мысль: «Для Платонова время пришло к концу 20-х годов: именно тогда он и ощутил весь „трагизм поколения“, всю безнравственность „строительной жертвы“».