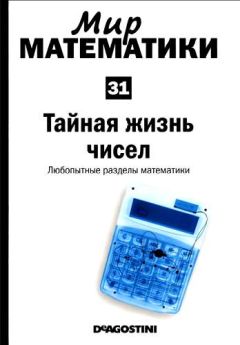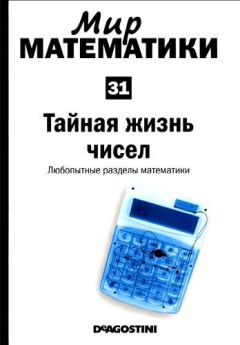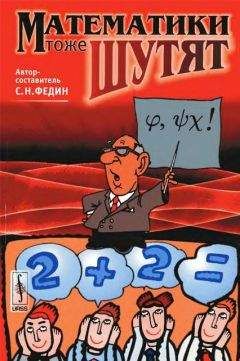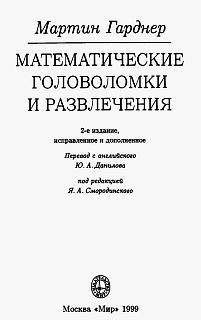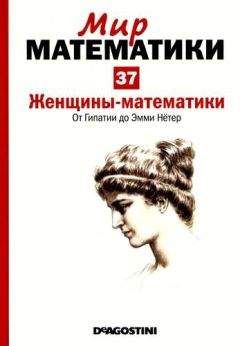Лев Трубе - Остров Буян: Пушкин и география
Поразительное по контрасту стихотворение! Казалось бы, предаваясь воспоминаниям и хандре, поэт должен был бы улетать мысленным взором на юг, великолепием которого был покорен:
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и плещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?!
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?
В свое время, еще не покинув Крыма, поэт уже затосковал по нему: «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза![14] сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом мне полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи и виноградные лозы» («Отрывок из письма к Д.»). И жаль ему было покидать
Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды…
Но теперь поэт уже не ищет пышного лона природы, на котором можно предаваться беззаботной неге. Теперь он волнуем предстоящим и ищет уединения для раздумий на родном севере, даже на Крайнем Севере, как сейчас принято говорить.
Пушкинисты немало спорили о том, какой остров имеется в виду в стихотворении «Когда порой воспоминанье…». Некоторые исследователи считают, что это Соловецкие острова, печальный край изгнания и заточения. По мнению А. А. Ахматовой, это остров Голодай на окраине Петербурга, где похоронены тела пяти казненных декабристов. Назывались даже Шотландия, Скандинавия2.
Что в стихотворении говорится не о Соловецких островах (а тем более не об острове Голодае), можно утверждать вполне определенно, ибо они не «увядшей тундрою покрыты», а лесом — сосново-еловым и березовым. Достаточно взглянуть на карту природных зон, чтобы увидеть, что тундра находится значительно севернее Соловецких островов, уже на Кольском полуострове. А. С. Пушкин знал, о чем писал. Или он ошибался, характеризуя природу острова, если имел в виду Соловки? Но едва ли! Правда, А. Ахматова в доказательство, что это остров Голодай, ссылается на «Рыбаков» Н. Гнедича, где есть «невские тундры»3. Но у А. С. Пушкина было понимание слова «тундра» аналогичное современному, что видно из вышеприведенного плана его статьи о Камчатке (с. 41).
Не может быть это Шотландией или Скандинавией, для чего совсем нет никаких оснований. Во-первых, Скандинавия не остров, а огромный полуостров, пролегающий от умеренных до арктических широт, а Шотландия — только часть острова Великобритания. Во-вторых, зачем поэту надо было уноситься в чужие края? Правда, он сначала употребил слово «чужбина» (написав сокращенно — «чуж»), но, зачеркнув, заменил его словом «пустыня» («В пустыню скрыться я хочу…»).
«Открытый остров», к которому заносит волновая погода утлый челнок поэта, скорее всего, образ, олицетворение Севера, чем какой-то реальный остров. Но основа для создания этого образа у Пушкина была.
Стихотворение, судя по соседству на листе бумаги других произведений, написано около 16 октября 1830 года. Если обратиться к написанному несколькими днями раньше письму поэта к невесте (от 11 октября), то в нем можно прочесть следующее: «Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту или через Архангельск? Дело в том, что для друга семь верст не крюк; а ехать на Москву значит семь верст киселя есть (да еще какого? Московского!)» Возможно, взгляд на карту России, на север, мог натолкнуть поэта на образ «открытого острова», увядшей тундрою покрытого. В зачеркнутой строфе он еще определяет его как «приют пустынный птиц морских» и замечает, что там «чахлый мох едва растет» или «кое-где кустарник тощий». Все это — и мхи, и карликовые березы, и птичьи базары — характерно для таких арктических островов, как Грумант (Шпицберген) и Новая Земля, к берегам которых издавна ходили отважные русские поморы.
Стихотворение «Когда порой воспоминанье…» передает то настроение и чувства поэта, которые он испытывал глухой осенью 1830 года: «Я совершенно пал духом и право не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать… Что до нас, то мы оцеплены карантинами, но зараза к нам еще не проникла. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседей, ни книг. Погода ужасная. Я провожу время в том, что мараю бумагу и злюсь» (из письма Н. Н. Гончаровой от 30 сентября).
Поэт «марал бумагу», на листах то появлялись, то исчезали слова и строки в мучительных поисках точного выражения своего душевного состояния — «и задыхаюсь я», и «странно душно мне», и «душно в свете мне», и «пью холодное страданье…». И как не появиться хандре, если тянутся недели, а от невесты нет вестей: в Москве холера, он остается в полном неведении, что с ней, выехала ли она из зараженного города. Он хочет быть уверен, что она «в деревне, в безопасности от холеры».
И все-таки все, что излилось из души на бумагу, так и осталось исчерканным… Почему так получилось? Ведь поэту в эту знаменитую осень все так хорошо удавалось, а тут как будто не удалось. Так ли это? Думается, не совсем. Дело тут, как кажется, в том, что этому трудно дававшемуся стихотворению нашлась замена по чувствам, по настроению после прочтения им стихотворения Барри Корнуолла «Призыв». Эта замена, а может быть, своеобразный вариант — стихотворение «Заклинание», созданное на следующий день. Но пушкинское «Заклинание» значительнее, трепетнее мистического «Призыва».
Но вот почти через месяц письмо от невесты все же приходит. Однако какое! И Пушкин просто взрывается: «Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте. Письмо ваше от 1‑го октября получил я 26‑го. Оно огорчило меня по многим причинам: во-первых, потому что оно шло ровно 25 дней; 2) что вы первого октября были еще в Москве, давно уже зачумленной; 3) что вы не получили моих писем; 4) что письмо ваше короче было визитной карточки…»
Вот так возникло и разрешилось одно из душевных напряжений поэта осенью 1830 года, в которую ему пришлось пережить столько волнений и при всем этом столько сочинить! И тут А. С. Пушкину помогло ощущение природы, к которой он не раз обращался в минуту душевной невзгоды, когда ему было особенно тревожно и когда он погружался в раздумья. Вспомним хотя бы стихотворение «Вновь я посетил…».
«И начал странствия без цели»
В своей любви к путешествиям А. С. Пушкин не только признавался, но и вводил описания их в свои художественные произведения. Отдельную главу «Евгения Онегина» он намеревался посвятить путешествию героя, направив его почти по маршруту своего путешествия на юг в 1820 году, а также путешествия на Кавказ в 1829 году. Но эта глава о путешествии Онегина осталась незаконченной, в отрывках. В предисловии к ним поэт заметил, что он «решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики». В плане романа эта глава названа «Странствие». В ней должно было быть показано трехлетнее путешествие героя по России.
По каким же причинам А. С. Пушкин решился опустить главу о странствиях Онегина? «Теперь мы знаем причину, — считает известный пушкинист С. М. Бонди. — В этой главе было рассказано, как Онегин побывал в «военных поселениях». Так назывались устроенные императором Александром I и его помощником генералом Аракчеевым специальные деревни для солдат, где они жили со своими семьями под строжайшим присмотром военного начальства. Трудно представить себе те мучения, побои, истязания вплоть до смерти, которые приходилось испытывать этим «военным поселенцам» от жестоких «аракчеевцев»! Онегин все это узнал, увидел, и, конечно, эти страдания народа должны были оставить самый тяжелый след в его душе. Уже теперь презрительно отвернуться от жизни и думать только о себе он был не в состоянии…
Пушкин уничтожил даже в рукописи все написанные им стихи о «военных поселениях», так как не только напечатать ему не позволили бы, но за сочинение таких стихов ему грозили бы ссылка или тюрьма»1.
Эти заключения С. М. Бонди основаны на свидетельстве литератора пушкинского времени П. А. Катенина. В его письме к пушкинисту П. В. Анненкову говорится: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного (т. е. от А. С. Пушкина. — Л. Т.) в 1832‑м году, что сверх Нижегородской ярманки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую»2.