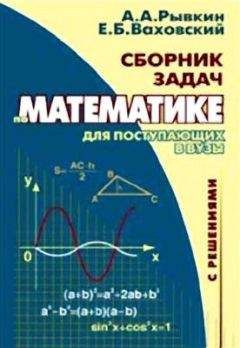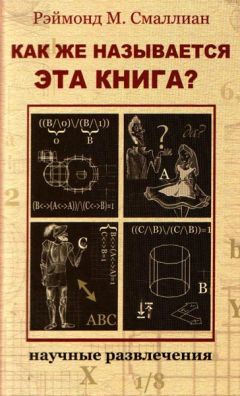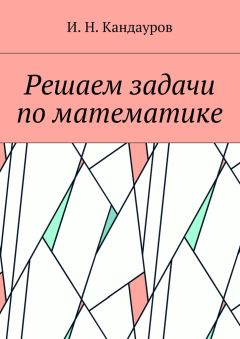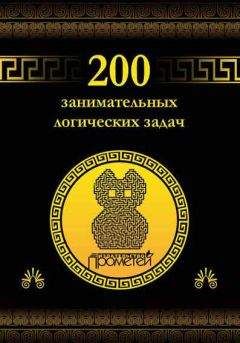Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
В статьях 90-х годов Франц Меринг размышлял об ограниченности познавательных и художественных возможностей натурализма, который «плоское подражание природе, отвергавшееся всяким крупным творческим художником», выдвигает как «революционизирующий принцип искусства», отворачиваясь при этом от «великих вопросов исторического прогресса культуры». Становится понятно, говорил он, почему натурализм «отличается таким невероятно узким кругозором: его утлому суденышку не хватает ни компаса, ни руля, ни ветрил, чтобы пуститься в широкий океан истории…. становится также понятно, отчего он так цепляется за рабское подражание природе»: натурализм «вынужден стоять беспомощно перед каждой социальной проблемой»[216].
Наблюдения Меринга бросают дополнительный свет на вполне заметную границу между творчеством Золя, писателя, стоявшего «неизмеримо выше своих маленьких подражателей», и современной ему натуралистической литературой.
В серии «Ругон-Маккары» высокую ценность представляют именно те книги, материал для которых автор почерпнул в «океане истории», идя навстречу самым острым, самым насущным вопросам современной ему действительности и захватывая проблемы завтрашнего дня. Пафос монументального произведения Золя составляет живое ощущение исторического процесса.
Ради того чтобы в серии «звучали все ноты», писатель мог отступать в сторону от крупных социальных полотен, создавать романы разного типа и далеко не равной в каждом случае идейной и эстетической ценности. Вслед за «Землей» (1887 г.) — произведением глубоко противоречивым, в котором сильные, правдивые, горькие страницы, реалистически рисующие участь крестьян, тонут среди грубых натуралистических сцен, в потоке настойчиво и откровенно подчеркнутых физиологических подробностей, написана была «Мечта» — «книга, которой от меня никто не ожидал», аллегорическая идиллия, «этюд о потустороннем» с полным устранением реалистических мотивировок. В романе «Человек-зверь» (1890 г.), где нашел отражение интерес Золя к сфере подсознательного, намеченные им ценные социальные аспекты были заслонены мотивами патологии. Но от узко психологических и физиологических проблем писатель неизменно возвращался к социально значимому искусству. Задача глубокого познания действительности и реалистического ее отображения была осознанной тенденцией, внутренним содержанием творческих поисков Эмиля Золя.
Еще в 1869 году, работая над планом серии, представив себе галерею задуманных персонажей в действии, в сфере общественно-политической жизни Второй империи, автор сделал запись: «Для моего произведения, для его логики мне необходимо крушение этих людей. Каждый раз, когда задумываюсь над исходом драмы, я вижу только крушение. Судя по тому, как сейчас обстоит дело в действительности, маловероятно, что крушение произойдет скоро. Но оно мне необходимо». Логика произведения Золя совпала с логикой истории.
* * *Предвестия краха Империи, основанной на крови, ощущались уже в прологе к серии — романе «Карьера Ругонов», законченном непосредственно перед франко-прусской войной: в произведении, рисующем начало «эпохи безумия и позора», в далекой перспективе намечался неизбежный итог. И в дальнейшем, после того, как история дала необходимую развязку и Вторая империя кончилась «тем же, чем началась: жалкой пародией»[217], автор «Ругон-Маккаров», создавая всеобъемлющую картину французского общества, сохранил этот четкий конструктивный принцип, эту убедительную логику, которой обоснован был во многих звеньях эпопеи крах изжившего себя, обанкротившегося режима, закономерность разгрома.
Роман «Его превосходительство Эжен Ругон», написанный за шестнадцать лет до «Разгрома», воспринимается как экспозиция к произведению, которое подводит трагический итог определенному периоду истории Франции. «Империя не имела государственных деятелей, она имела только дельцов» — Золя аргументировал этот свой вывод всем содержанием романа, посвященного именно государственной деятельности бонапартистского правительства, высшим сферам политики, где выступает Эжен Ругон, в котором обобщено политическое лицо Империи Луи-Наполеона.
Апофеоз Второй империи — торжества 1856 года по поводу рождения сына Луи-Наполеона, наследника престола, продолжателя династии Бонапартов — воссоздан Эмилем Золя в духе традиционной описательности. Целый поток характерных деталей позволяет ощутить блеск расточительной роскоши, почувствовать весь размах празднеств, ознаменовавших событие, которому в официальной жизни Франции придано было крупнейшее значение. Кажется, что автор совершенно поглощен подробностями, рисуя, например, пышную церемонию в день крестин наследного принца. Несметные массы людей у Аркольского моста, где «ходуном ходила зыбь человеческих голов», сияющие и взволнованные лица в распахнутых окнах, на балконах, даже на крышах; машущие руки, развевающиеся в воздухе платки, взлетающие шляпы…; «чудовищный вздох» толпы, когда на безлюдном мосту показались открывающие процессию трубачи; эскадроны карабинеров, драгун и конвойных войск; штаб в полном составе. Слухи, передающиеся в толпе, очарованной блестящим зрелищем: суды закрыты, биржа бездействует, государственные служащие получили на этот день отпуск. Мелькающие в разговорах цифры как бы придают еще больше блеска празднеству, обошедшемуся так дорого: четыреста тысяч франков из бюджета Франции, миллион из личного императорского бюджета, двести тысяч на одну лишь крестильную процессию, восемьдесят тысяч на выпуск медалей для авторов кантат, исполнявшихся в разных театрах, сто тысяч на приданое младенцу…
Однако предшествовавшая празднествам сцена наметила определенный аспект, в котором и воспринимаются патетические описания. Докладчик в Палате депутатов, испрашивая из государственного бюджета огромные суммы для покрытия этих чрезвычайных расходов, приглашал членов Палаты «выразить всю полноту их радости». И Палата готова была выразить.
Но, говоря о великом назначении прославленной семьи, оратор дошел до имени сына Наполеона I, Франсуа Бонапарта, которому «пути провидения» не позволили послужить Франции (после низложения отца принц содержался в фактической неволе в Австрии, где и умер 21 года от роду). «Что он несет? Залез в какие-то дебри!» — прошептал один из депутатов. Все встревожились: «К чему эти исторические воспоминания, которые стесняют их рвение?» Сгладивший неприятные впечатления конец речи — «рождение одного является спасением для всех» — встречен был с облегчением бонапартистской Палатой. Спасения они жаждали всегда.
Однако автор романа не склонен отказываться от «исторических воспоминаний». Они постоянно присутствуют в подтексте и время от времени оживают в образе, создавая ассоциации, опасные для упоенно торжествующей Второй империи.
Взрыв «нервического энтузиазма» потряс толпу, когда появилась свита императора, шталмейстеры, адъютанты; потянулась вереница придворных карет — сверкающие мундиры, ослепительные туалеты дам… Давка в толпе, буря приветствий, ликование… Восторг достиг апогея, когда на мост въехали семь верховых курьеров монарха, затем золоченая, похожая на хрустальный фонарь, карета с младенцем на руках у кормилицы и, наконец. в сопровождении маршалов карета, в которой следовала императорская чета. Плавно изогнутый Аркольский мост был так легок, что казалось, будто «кареты висят в воздухе над пропастью реки».
Как кстати появилась здесь, среди толпы, малопочтенная фигура из недавнего прошлого Империи — проходимец Жилькен, который немало побегал по заданиям Эжена Ругона перед государственным переворотом 1851 года, «вернувшим счастье Бонапартам». Уж он-то знал, как достигнуто было это великолепие. При дележе добычи не очень щедро одаренный своим патроном, оставшийся почти что ни при чем, Жилькен сейчас с простодушной завистью и чуть ли не с восхищением бормотал: «Как они, собаки, нежатся в этих атласных коробках! И подумать, что все это — дело моих рук!»
И пышный чинный церемониал, и бьющее в глаза богатство празднества воскрешали воспоминания о временах Наполеона I, о его «недолговечной Империи», которая затмевала роскошью и своей необузданной тягой «ко всему, что сверкает», даже «самые блестящие дни павшей монархии». Цитируемая характеристика Первой империи из ранней повести Бальзака[218] имеет ближайшее отношение и к Империи Луи-Наполеона.
Но о Наполеоне I здесь напоминала не только вызывающая роскошь церемонии. Над всем этим великолепием отовсюду — с набережных, с мостов, из окон — видна была монументальная вывеска — «огромный серый сюртук, намалеванный в профиль фреской на голой стене шестиэтажного дома, где-то в глубине острова Сен-Луи, у самой линии горизонта. Левый рукав сюртука был согнут в локте и казалось, будто одежда сохранила отпечаток и позу тела, которое уже перестало существовать». Жилькен заметил его в то мгновение, когда вывеска как бы повисла над обеими императорскими каретами. Сюртук «пустой внутри, но в ореоле солнечного сияния», составлял фон всей торжественной картины. «Взгляните-ка!.. Ведь это — дядюшка», — вскричал скандальный приятель Ругона. «В толпе пробежал смешок». Золя внес социальную символику в бытовой конкретный образ, который входит в экспозицию романа и организует все многообразные наблюдения, наполняющие первые главы. Обнажая свою сознательную сатирическую цель, писатель придал этому образу переносный метафорический смысл, включил его в цепь исторических ассоциаций и заставил служить крупному реалистическому обобщению.