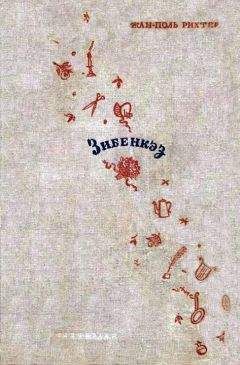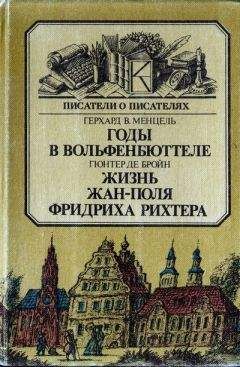Григорий Свирский - На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986
Если б этой дорогой пошли лишь братья Стругацкие!
Мировоззренческий поворот талантливых писателей отражает сегодняшний пессимистический взгляд огромной массы советской интеллигенции, запуганной «открытыми» судами и арестами инакомыслящих и потому пустившейся на благоразумные рассуждения: «Новое всегда хуже. Власть есть власть. Эти хоть не начнут массового террора…»
Сахаров и Юрий Орлов шли своей дорогой. Братья Стругацкие — своей; не будем преуменьшать их заслуг.
Спасибо им за то, что они успели сделать: после запрещения Солженицына, тюремной литературы и вообще реалистической литературы с остро-критическим зарядом фантастика, как видим, действительно взвалила на свои плечи опасный груз и — два года несла его самоотверженно: миллионы читателей, любителей фантастики, оказались, неожиданно для самих себя, в эпицентре социальных бурь, и Бог знает сколько миллионов читателей прозрело, размышляя над непривычно «земной» фантастикой братьев Стругацких.
Спасибо им, оправдавшим ожидания, даже самые оптимистические: оттого, что последние книги Стругацких были преданы в СССР анафеме, критическое начало их, язвительно разоблачающее, гневное, вышло вперед.
Таковы законы воздействия запретной литературы. Критический заряд ее усиливается. И чем больше и свирепей власти ее «отлавливают», тем сильнее.
* * *В повести «Гадкие лебеди» Стругацких есть фраза о выпивке, в которой, как всегда, принимает участие поэт Виктор Банев. «Мы не будем напиваться… — говорит один из героев… — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается. Ну и Бог с ней…»
А мы сейчас познакомимся вот с этой, второй половиной нации: с той самой, которая напивается, напивается порой ежедневно. Не скажем: Бог с ней! Попытаемся понять, чем жива эта пьющая «в усмерть» половина Руси.
Сейчас Россия пьет страшно. Как никогда. Я уже приводил убийственные цифры, о которых сообщил заместитель министра внутренних дел, выступивший перед писателями Москвы.
И вот так случилось, что талантливый представитель этой зверски пьющей половины — Венедикт Ерофеев — написал книгу под названием «Москва — Петушки», которую автор назвал поэмой. Ею зачитываются. Вернее, зачитываются рукописью, гуляющей в самиздате.
«Москва — Петушки» — ироничная, трагичная, поэтичная, полная земных деталей проза — казалось бы, полная противоположность фантастике, а вместе с тем она совершенно фантастична, как жизнь в России.
Крамольны уж самые первые строки книги, в которых рассказано о том, что он, автор, пересекая Москву из конца в конец, никогда не видел Кремля, хотел взглянуть, но почему-то каждый раз оказывался вместо Кремля в ресторане Курского вокзала либо в пивной.
Да и сюжета в ней, внешнего сюжета, никакого: Веня работает возле аэропорта Шереметьево: «Разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю». Затем пили. На другой день «вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно…»
Веня — бригадир, занят тем, что чертит графики выпивок. Сколько было выпито в день. «Интересные линии… У одного — Гималаи, Тироль, Бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел…»
Затем Веня Ерофеев едет в электропоезде из Москвы в Петушки и пьет — И «самостоятельно», и с соседями… Делится опытом составления смесей под названием «Ханаанский бальзам», «Ландыш серебристый», «Слеза комсомолки». Но превыше всех ставится им коктейль «Сучий потрох», куда входят кроме жигулевского пива также шампунь «Садко — богатый гость», средство от перхоти и потливости ног и дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых. Все это неделю настаивается им на табаке сигарных сортов и — подается к столу. Читатель тут хохочет, вспоминает прозу веселого аббата Рабле, в восторге звонит друзьям: «Читали «Москва — Петушки»?!»
Но эти страницы — только подход к теме. А затем в разговорах и размышлениях Вени — вся история России, где аксессуары пьянства, пожалуй, сродни фантастике братьев Стругацких, что и сближает эти книги, бесконечно далекие и по стилю, и по жанру, и по материалу…
В пьяных или как бы пьяных разговорах высмеиваются и принижаются все «святыни революции», ставшие штампами партийных докладов, стереотипы современного мышления, привычное бездушие и безучастие, вся травмированная временем психика несчастного народа. А уж тем более карьеризм, основа основ многих бед.
…Выгнали Веню за «пьяные графики» из бригадиров…
«И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой…» Если знать, что «выкованным из стали» Сталин назвал Дзержинского, то легко понять силу Вениных аналогий.
Сам плоть от плоти народной, как же он глумится над спившимся народом. «О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество!.. О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия до закрытия магазинов».
Ни себя не жалеет прораб Веня Ерофеев, ни свой родной народ, с которым он встречается и на работе, и в винных магазинах, и в электричке.
Вот он вошел, выпив на площадке электрички, в вагон, наполненный народом. «Публика посмотрела на меня почти безучастно, — пишет Веня, — круглыми и как будто ничем не занятыми глазами.
Мне это нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и покупается:… глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм. Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире Чистогана…
Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы ни случилось с моей страной. В дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий (пародируется, как видим, и Тургенев! — Г. С.) — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…»
«Безнадега» и белая горячка доводят Веню до смерти; кажется Вене, что разбивают ему голову о Кремлевскую стену…
Сопоставление фантастики Стругацких и нарочито приземленной, на натуралистической подкладке, трагической и поэтичной прозы Ерофеева, может быть, отчетливее всего свидетельствует о том, что литературные формы, пусть даже находящиеся в противоположных жанровых «углах», наполняются ныне в России одним и тем же содержанием — гневным протестом против губителей земли русской, которые довели ее до бесхлебья и, что страшнее, порой до безмыслия.
И до отчаяния.
А также и о том свидетельствует, что жива та, вторая половина Руси, о которой интеллигентные герои Стругацких говорят: «Ну и Бог с ними!»
Жива она и размышляет — в тоске, гневе, отчаянии…
8. Жанр устных выступлений писателей. Последняя попытка вырваться из-под цензурного гнета
Цензурная петля затягивалась все туже. Затягивалась тихо. Без судебных процессов. Большинство произведений оставалось погребенным в письменных столах.
Время диктовало новую тактику прорыва цензурных заслонов — устные выступления. Они начались не сразу: еще тлели надежды на перемены. Ни умом, ни сердцем не верилось в безнаказанность злодейства, которого не видывал мир.
Однако время говорило о другом. Доносчик, профессор Московского университета Эльсберг, если и не наказанный, то, во всяком случае, казалось, отстраненный от печатных изданий, вдруг снова стал на страницах «Литературной газеты» учить писателей нравственности и гуманизму. Был возведен — в Институте мировой литературы им. Горького — в ранг главного теоретика…
Мой сосед по дому, старый критик, бывший зэк, брошенный в лагерь в свое время по доносу Эльсберга, сказал вечером, во время прогулки: если Эльсберг пишет о нравственности, то мне остается только умереть.
И умер. На следующее утро.
Человеческая совесть вытерпеть такое не могла. Совершенно неожиданно суждения и проклятия известных писателей, высказанные даже в узком кругу, в Малом зале или в одной из комнат Клуба литераторов, где чаще всего происходили непарадные заседания, — эти суждения и проклятия… становились самиздатом.
Началось, как мы уже знаем из предыдущих глав, с выступления Константина Георгиевича Паустовского, листочки с его речью по поводу романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» разлетелись по Москве, а затем по всей стране, как прокламации.