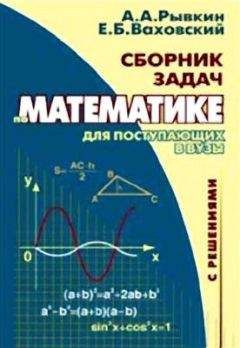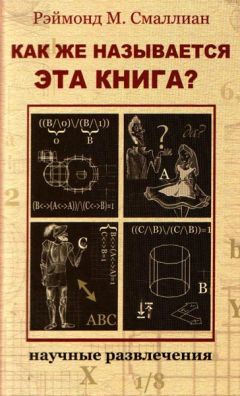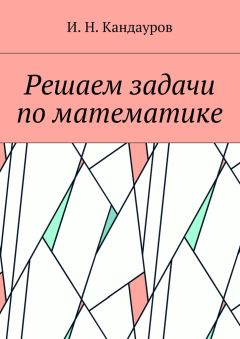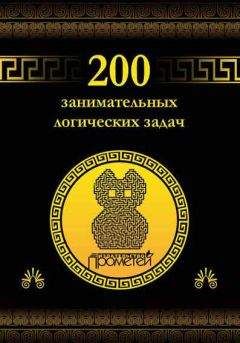Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
После месяца лишений, когда забастовщикам становилось все труднее держаться, жена Маэ («она слишком часто рассчитывала на доброту человеческую») подговорила Прожженную и жену Левака пойти с ней в Монсу и упросить лавочника Мегра продлить кредит хоть на неделю. По дороге их стало около двадцати. У обывателей при виде угрюмых, нищенски одетых женщин делались озабоченные лица. Всюду запирались двери. «Так они шли в первый раз, и это был нехороший знак». Когда где-нибудь «женщины гурьбой выходили на дорогу, обычно начиналась беда». Выслушав издевательский отказ Мегра, жена Маэ на улице, «подняв руки в порыве мести и негодования, призывала гибель на его голову, кричала, что такой человек не достоин есть хлеб». И недалек уже день, когда она в приступе страшной ярости и торжества будет кормить землей разбившегося насмерть при падении с крыши Мегра — распутного и жадного Мегра, предпочитавшего, чтобы с ним расплачивались дочери и жены шахтеров; всемогущего Мегра, который мог дать хлеба в долг или не дать.
Но способность к стихийному взрыву — только одна и не самая характерная сторона образа этой женщины. Во время погрома в Жан-Барте «спокойнее всех вела себя Маэ. Надо добиваться своих прав, но зачем все разрушать?». И пыталась помешать громить шахту. Но в колонне забастовщиков, тронувшейся из Жан-Барта в другие шахты, чтобы остановить работу, Маэ шла «с затуманенным взглядом, словно перед ней уже вырисовывалась вдали обетованная страна справедливости». Ради этой обетованной страны она способна была вытерпеть бесконечные муки, принести величайшие жертвы, перешагнуть предел человеческих страданий…
Маэ считала, что лучше было бы, конечно, «не прекращая работы, заставить Компанию быть справедливой. Но раз уже ее прекратили, нельзя выходить на работу, покуда справедливость не будет восстановлена. В этом она была непоколебима». И непоколебима осталась даже тогда, когда «пришли последние времена».
О стойкости четы Маэ может дать представление один день из жизни этой семьи, когда они могли уже в полной мере ощутить свои несчастья и сделать выбор: продолжать борьбу или сдаться. День тяжелый, жестокий, но еще не самый ужасный; после него последуют беды, которым не видно будет конца… Не много времени потребовалось, чтобы в полный упадок пришли дела семьи, где и дети с десяти лет зарабатывали на жизнь. Отнесенд старьевщику жалкое имущество, вплоть до холста с тюфяков и носового платка за два су. Унесли и розовую картонную коробку, которую Маэ когда-то подарил жене. «В нищей семье горько оплакивали каждую вещь», но с коробкой расстаться не решались: единственная семейная ценность, она, как символ домашнего очага, украшала собой буфет. Жена как-то спросила нерешительно, не продать ли коробку? «И побледнела». Маэ резко выпрямился: «Нет, этого я не хочу». Но настал день, когда дошло и до розовой коробки; женщина сокрушалась о ней, «словно о ребенке, которого пришлось подкинуть». Больше уже не пытались искать чего- либо на продажу: знали, что «нет в доме ничего» — ни картофелины, ни куска угля, ни свечи. Только выпавший снег своей белизной рассеивал мрак в опустевшей холодной комнате. Впрочем, аббат Ранвье не удивился, войдя в этот «мертвый дом без света, без тепла, без хлеба», — он уже успел побывать в двух соседних жилищах.
Но чете Маэ пришлось поступиться и большим, с чем горечь потери необходимого имущества не могла сравниться. Мать недавно еще грозила, что своими руками прикончит Ленору, Анри, Жанлена, если они вздумают нищенствовать. Но поистине не было жертвы, перед которой остановилась бы жена Маэ в своей страстной жажде справедливости. Чтобы продержаться, она «теперь сама посылала их на улицу»; дети гордой Маэ «бродили по дорогам и просили милостыню». Мало того, она говорила, что все десять тысяч углекопов Монсу «с посохом и сумой пойдут по миру, как нищие, обходя несчастный край». Однако дети Маэ приходили из своих странствий с пустыми руками: шахтеры сами были задавлены нищетой, а обыватели вооружены «благоразумием», и в семье Маэ умирала от голода Альзира — девочка, которой счастье рисовалось в виде очень теплого дома, «где дети играют и едят сколько им угодно». А сам Маэ, не в силах помочь, шагал из угла в угол, «ударяясь о стену, словно отупевший зверь, который уже не узнает своей клетки».
Этьен вздрогнул, услышав в темной, холодной комнате счастливый смех Альзиры: в лихорадочных видениях к ней пришло лето, она играла на солнце. «У него перехватило дыхание от жалости». Но то была жалость человека, уже теряющего внутреннюю связь с миром горя, труда и нужды. Мысли, пришедшие к нему в часы долгих раздумий в убежище Жанлена в Рекийяре, не были случайны. Ощущения, которые он испытывал сейчас, вновь непосредственно соприкоснувшись с жизнью своих товарищей, это подтверждали. «Он чувствовал отвращение, неловкость рабочего, отозванного от своего класса, человека более утонченного благодаря образованию, полного честолюбивых стремлений. Ах, какая тут нищета! И этот запах, и эти сбившиеся в кучу несчастные люди… Зрелище этой агонии потрясло его, он искал слов, чтобы дать им совет — покориться».
Но Маэ думал о другом. Его приводили в ярость «проклятые штыки», которые торчат здесь, чтобы принудить углекопов работать «под дулами заряженных ружей». Ему было «очень горько», что уже целых два месяца он не спускался в шахту. Его оскорбляла самая мысль о том, что Компания намерена нанять вместо потомственных ворейских шахтеров бельгийских рабочих, пришельцев… «Значит, углекопы больше уже не хозяева у себя дома?» Настолько близко было Маэ все, относящееся к работе, что он и позабыл о том, что уволен. Этьен напомнил: «Если ты захочешь, они завтра же примут тебя обратно», и, наконец, «решился и дрожащим голосом произнес: „Ну вот… Больше нельзя тянуть, мы погибнем! Надо сдаваться“.
Столько нравственного величия, последовательности и верности идее справедливости открылось в образах четы Маэ, такая готовность стоять и дальше, хотя уже кончались силы и грозили огромные потери. „И это ты говоришь? Ты говоришь? — вскричала жена Маэ. — Опять все будет по-старому? Значит, нет справедливости?“ Этьен с изумлением смотрел на эту, еще недавно „такую рассудительную“ и терпеливую женщину: „Теперь не он, а она говорит о политике, хочет одним ударом смести буржуазию, требует республики и гильотины, чтобы избавить землю от богачей, от этих грабителей, разжиревших на трудах голодных бедняков“. Маэ сейчас видела судьбу своей семьи в тесной связи с судьбами ушедших поколений и тех, которые придут… „Когда я подумаю, что отец, дед, прадед и все, кто еще раньше их жил, переносили все то, что мы терпим теперь, и что наши сыновья и внуки будут точно так же страдать, — я схожу с ума, я возьмусь за нож…“ Этьен уже „бил отбой“ („battait en retraite“), заговорив о возможных уступках Компании и о соглашении с ней. „Никаких соглашений!“ — кричала жена Маэ.
В этой сцене, где достигнута такая определенность, законченность характеристик, послышались в авторской оценке противоречивые слова. „Неосуществимая мечта обратилась в яд, отравлявший мозг в этой голове, помутившейся от горя“ („l'ideal impossible tournait en poison, au fond de ce crane felepar la douleur“) — сказано о жене Маэ. Но субъективный оттенок несогласия, осуждения, привнесенный писателем, не в состоянии отменить объективный смысл этой сцены и заслонить данную в ней драматичную, яркую типизацию процессов, совершающихся в реальной действительности. Тем более, что выше, говоря о шахтерской солидарности, Эмиль Золя нашел другие слова: „Они заранее знали, какие муки им предстоят, — и никто ни слова не промолвил, что надо сдаться… Кто посмел бы первый заговорить о покорности? Ведь все поклялись держаться вместе, как в шахте, когда бывало нужно спасти товарища, засыпанного обвалом. Это был их долг, они прошли хорошую школу и научились стойкости“. В их решимости была и гордость людей, которые в силу своей профессии много раз смотрели в глаза опасности.
Семья Маэ не являлась исключением ни в своей готовности стоять до конца, ни в своих несчастьях. Доктор, пришедший, наконец, к умирающей Альзире, осмотрел ее при свете пяти-шести спичек, которые зажигал, одну за другой, отец. Девочка в мерцающем свете казалась „чахлым птенцом“, замерзающим в снегу; она улыбалась „блуждающей предсмертной улыбкой, широко раскрыв глаза“. Доктор произнес в ответ на горькие сетования матери: „Перестаньте! Она кончается… Твоя злосчастная девчонка умерла с голоду. Впрочем, она не единственная, я видел тут рядом еще такую же…“ Он торопливо ушел. И тогда, как взрыв отчаяния, прозвучали слова молитвы Маэ, призывавшей смерть. Женщина, которая и не ждала от бога спасения, сейчас молила его об одном: „Господи, отчего ты нас не призовешь к себе, теперь мой черед, возьми меня… Господи, возьми моего мужа, возьми всех, сжалься над нами, возьми же нас наконец!“ Она готова принять смерть как избавление от нестерпимых мук. Но не примирение. Такая наболевшая обида, такая накопившаяся боль переполняют ее, что жить, отказавшись от надежды добиться справедливости, Маэ не может. Сохранение старой системы оплаты работы, прибавка пяти су за вагонетку — все это входило в ее понимание справедливости; но к этому присоединилось нравственное значение победы.