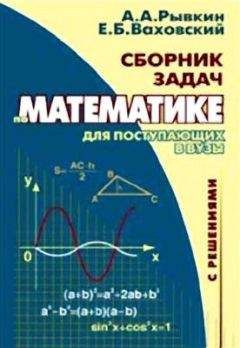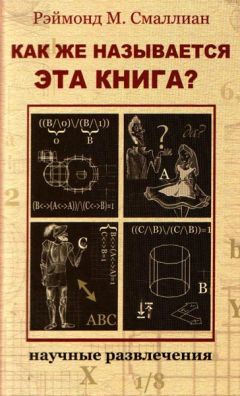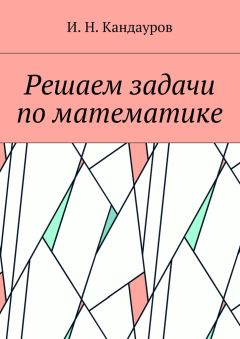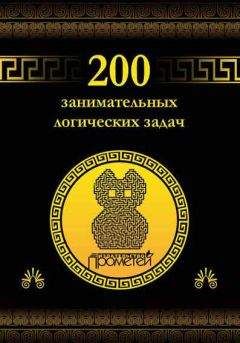Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
«Однако посмотрите на главных героев романа — у каждого своя линия развития… Мне казалось, что в таком монументальном произведении, как мой роман, линии главных героев будут четко выделяться на фоне толпы и тем самым достаточно выразят мой замысел». Острый момент в споре Эмиля Золя с Сеаром имел касательство именно к замыслу. Критик, которым не была понята концепция автора, полагал, что в данном произведении вообще не следовало выделять обособленных персонажей, надо было изображать только толпу. «Не вижу, как это можно было бы осуществить, — недоумевал Золя. — Ведь я хотел показать именно взаимодействие и взаимовлияние отдельной личности и толпы. Как же я мог обойтись без отдельной личности?»[184].
Осуществление этой значительной творческой цели — изображение процесса «взаимодействия и взаимовлияния» главных фигур и фона — требовало от автора величайшей точности в отборе типических обстоятельств, которые позволили бы проследить путь формирования образа, увидеть его динамику, установить точки соприкосновения героя со средой или отталкивания от нее. Жизнь Этьена Лантье доставила автору достаточно материала для решения данной задачи. Но образы супругов Маэ открыли в ней новые аспекты, новые идейные и художественные возможности, существенно расширив и обогатив социальный план романа.
Представляется удачным выбор обстоятельств, при которых начинается движение (еще мало приметное) образа Туссена Маэ. Участие Маэ в торгах, объявленных Компанией среди шахтеров, дало ему пищу для размышлений. Торги на разработку участков — хитроумное изобретение, сулившее крупные доходы акционерам, навязывало углекопам жестокие, асоциальные формы борьбы за существование, внося капиталистические принципы в рабочую среду. Речь идет о конкуренции в значении, близком к точному, о соперничестве, разъединявшем людей, оспаривающих друг у друга жалкий заработок, извращавшем отношения между ними. В паническом страхе перед безработицей, сбрасывая один за другим по сантиму с вагонетки, конкуренты наперебой снижали расценки («Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chomage»), ущемляя интересы товарищей, но теряя в то же время и собственную выгоду. Право на разработку получал углекоп, согласившийся на самую низкую цену.
Туссену Маэ, чтобы оставить за своей артелью пятьдесят метров лавы, «пришлось состязаться с товарищем», тоже не желавшим уступать. Маэ отвоевал себе участок; но что это была за победа! Даже штейгер Ришомм пробормотал, что при такой оплате артель ничего не заработает. А Этьен взглянул с другой, очень существенной стороны, на торги и предприимчивых хозяев Компании: они «заставляют рабочих душить друг друга», и должен же этому прийти конец. Маэ, угрюмо молчавший после торгов, казалось, «очнулся»: «…Судьба проклятая! Давно бы пора!»
Дома по вечерам, когда слова Этьена «прорывали безысходный круг» вечной нищеты, каторжного труда и давали надежду, что изменится участь шахтеров, — «участь бессловесных животных, с которых стригут шерсть, а потом режут их», Маэ зажигался: «Вот будет встряска-то, а! Скоро ли это случится и как пойдет?». Но привычная покорность сковывала его. В конторе, получив сниженную плату по новой системе и выслушав обвинения секретаря Компании в том, что занимается политикой (держит квартирантом Этьена и вступил в кассу взаимопомощи), Маэ не нашелся, что возразить. Но, выйдя, рассердился на себя: «Ах, я дурак, дурак! Я должен был ему ответить…. нам есть нечего, а они со своими глупостями… Что же нам делать, черт возьми? Гнуть спину и благодарить?» Он был охвачен «и гневом и страхом» («travaille a la fois de oolere et de crainte»). А дома «целый дождь горячих слез» хлынул из глаз Маэ, когда он бросил на стол пятьдесят франков, которых не хватило бы для всей семьи даже на хлеб. Но и в других домах раздавался «вопль нищеты», и женщины с плачем выбегали на улицу, «как будто потолки комнат не могли выдержать их стенаний».
Развитие образа Маэ устремлено к сцене, которая для него имеет значение кульминации: в ней дан своего рода результат внутреннего движения, Маэ показан с новыми чертами, которые в нем сложились, открылись… Это — сцена встречи шахтерской делегации с директором Компании Энбо.
В столовой гости директора молча, «не смея пошевелиться» («n'osant plus rernuer»), прислушивались к доносившимся из гостиной грубым мужским голосам. Скоро стал слышен только голос Маэ. Директор был изумлен, увидев его среди делегатов: «Такой примерный рабочий, такой здравомыслящий человек, старейший углекоп в Монсу… Нехорошо, нехорошо!» Маэ и сам, «скрепя сердце», согласился участвовать в делегации; жена разделяла его опасения. «Когда настала пора действовать, ими обоими, хоть они и сознавали несправедливость своей горькой участи, вновь овладела покорность, унаследованная от многих поколений, страх перед завтрашним днем…» Все же он подавил сомнения, и свои, и жены. «Бросить товарищей — нечего сказать, хорошо! Я свой долг исполняю». Но узнав, что ему предстоит говорить от имени делегатов, Маэ «онемел от изумления… Я не сумею. Я наговорю глупостей».
Однако подыскивать слова Маэ не пришлось: слова жили в нем. «Мгновениями он удивленно прислушивался к своей речи, словно кто-то другой, а не сам он говорил тут перед директором. Столько всего накипело в душе — он даже и не знал, что все это в ней таилось…» Золя, не Давая пространного психологического анализа, запечатлел исключительной важности момент, когда выходит наружу, приобретает форму, выступает в значении акта сознания, становится понятием все то, что до сих пор относилось к области неясных чувствований. «…Сердце не могло сдержать горькой обиды». Но обида была общая. Маэ ощутил за собой всех, кто остался в поселке, и дальше — в Монсу. «Он говорил о нищете всех своих товарищей, о тяжком труде, о скотской жизни», о слезах голодных детей. «Мы ушли из шахт и не спустимся туда, пока Компания не примет наши требования», — сказал Маэ. Другие делегаты во время речи Маэ перестали замечать подавлявшую их роскошную обстановку директорской гостиной, по обратили взоры на директора: «Куда он клонит, что ему за интерес лгать им, сколько он крадет?», стоя между рабочими и хозяевами. А слова Маэ они одобряли молча, «кивками». И покинули дом Энбо, «храня грозное молчание».
Когда еще раз встретились делегаты с директором, вновь говорил Маэ от имени шахтеров, с которыми вместе вступил на путь протеста. Это и о нем, и о его товарищах писал Эмиль Золя: «…Еще никогда так не расступались тесные границы их умственного кругозора, никогда не раскрывались такие широкие дали перед этими изголодавшимися мечтателями… Ничто не могло бы поколебать их уверенность в том, что наконец они вступят в царство справедливости… Вера заменяла голодным хлеб, она их согревала в нетопленном доме…» И хотя голод уже «хватал людей за горло», делегаты отвергли ничтожные уступки дирекции. «Нет! Нет!» — говорили они, гневло хмурясь. Отношения шахтеров и Компании приобрели совершенную ясность. «Расстались врагами».
* * *Жена Маэ «до такой степени изменилась, что Этьен не узнавал ее». Изменение это стало заметно не сразу. Недоверчиво она покачивала головой, когда Этьен говорил о Республике, которая «даст хлеба каждому». Вторую республику, 1848 год Маэ помнила: в тот «злополучный год» они с мужем, только поженившись, «остались без всего… Ни гроша…, нечего было есть, работа останавливалась во всех шахтах. Да что там! Беднота вымирала; то же, что и теперь». Она принимала это за непреложный порядок, хотя внутренне и не соглашалась с ним: «хуже всего то, как подумаешь, что ничего нельзя изменить»; и внушала мужу, что они мало выиграют, если будут идти наперекор начальству. Рассудительно, спокойно она говорила Этьену: «Вы ведь знаете, я совсем не согласна со всякой вашей политикой», порицала его за бунтарские речи и тревожилась, видя, как у Маэ «загораются глаза», как его волнуют и убеждают эти речи.
Но и она «точно проснулась»; и ей оказались близки понятия, которые как бы разрывали «темный горизонт» и потоком света озаряли мрачную жизнь. Перед ней открывался «чудесный мир надежды», на ее лице стала появляться улыбка. Идея справедливости увлекала ее больше всего, в этом она вполне соглашалась с молодым человеком. «Да, верно! — восклицала она. — За справедливое дело я на все пойду… А ведь, по правде говоря, пора бы уж и нам пожить как следует». Эти чувства справедливости, надежды, стойкости станут доминантой образа жены Маэ, определят путь его развития, вызовут к жизни черты и обусловят поступки, не наблюдавшиеся у нее ранее.
Когда после обвала в шахте на улицах поселка Двухсот сорока появился зловещий фургон и обезумевшие женщины в смертельной тревоге пытались узнать, кто он — тот, кого везут; когда они следили, перед чьим домом остановится этот всем известный ящик, жена Маэ, как и другие, поглощена была нестерпимо мучительным ожиданием. «Фургон проехал». Но за ним шел Маэ рядом с носилками. При виде Жанлена с переломанными ногами «в ней произошла внезапная перемена». Без слез, задыхаясь от гнева, запинаясь, она говорила: «Вот как! Теперь они стали калечить наших детей…» И «выходила из себя», «не унималась» все время, пока перевязывали сына под надрывающий душу плач из соседнего дома, перед которым остановился фургон.