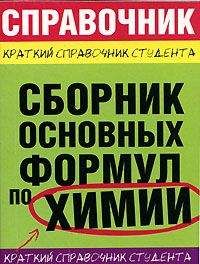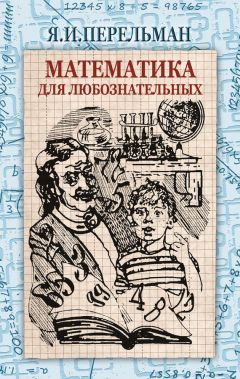Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)
Показательно устойчивое стремление осмыслить законы жизни дворянского общества через призму наиболее условных форм театрального спектакля — маскарада, кукольной комедии и балагана, с чем постоянно встречаемся в литературе конца XVIII — начала XIX века. К наиболее ранним сопоставлениям света и маскарада относится место в „Почте духов“ Крылова: „Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтоб показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или, что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать… что сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных людей, из коих, может быть, большая часть под наружною личиною в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство“.
Мы уже отмечали, что, рассматривая зрелищную культуру начала XIX века, нельзя обойти военные действия, как нельзя исключить цирк из зрелищной культуры Рима или бой быков из аналогичной системы Испании. Как известно, во всех этих случаях настоящая кровь, лившаяся в ходе зрелища, не отменяет момента эстетизации, а является его условием. В длинной цепи переходов, отделяющих театральные подмостки от рыцарского турнира или профессионального бокса, ужасное и прекрасное находятся в особом для каждой градации соотношении.
Однако в армии павловской и александровской эпох была еще одна форма, даже в неизмеримо большей мере ориентированная на зрелищность, но воспринимавшаяся как антипод и полная противоположность боя. Это был парад. Парад, конечно, в неизмеримо большей степени, чем сражение, ориентирован был на зрелищность. В определенном смысле именно здесь пролегла грань, делившая военных людей той эпохи на два лагеря: одни смотрели на армию как на организм, предназначенный для боя, вторые же видели ее высшее предназначение в параде. Естественно, что в первом случае выдвигалась вперед практическая функция, функция же эстетическая присутствовала лишь как некоторый чуть заметный налет, меняющий колорит картины, но не ее рисунок, а во втором — она вырывалась вперед, оттесняя все практические соображения.
За ориентацией армии на сражение или на парад стояли две различные военно-педагогические и военно-теоретические доктрины, а в конечном счете и две философские концепции. Социально-политическая их противоположность столь же очевидна, как и противопоставленность в ориентированности на классицистическую и романтическую культуры. Существовал еще один аспект: одна из них воспринималась как „прусская“, а другая — как национально-русская. На скрещении всех этих противопоставлений возникало и глубокое различие в эстетическом переживании этих двух основных моментов в жизни армии тех лет.
Участие в войнах, определившее биографии целого поколения молодых людей Европы (обстоятельство, не помня о котором нельзя представить жизненный облик декабриста), существенным образом влияло на тип личности. Хотя бой реализовывался как некоторая организация (он определялся общей диспозицией, а место и роль отдельного участника детерминировались ролью, отведенной его части, и характером обязанностей, возложенных на него по чину и должности), он открывал значительную свободу для личной инициативы. Организация боя, собирая людей весьма различных по месту в общественной иерархии и упрощая формы общения между ними, в определенном отношении отменяла общественную иерархию. Где, кроме аустерлицкого поля, младший офицер мог увидать плачущего императора? Кроме того, атомы общественной структуры оказывались в бою гораздо подвижнее на своих орбитах, чем в придавленной чиновничьим правопорядком общественной жизни. Тот „случай“, который позволял миновать средние ступени общественной иерархии, перескочив снизу непосредственно на вершину и который в XVIII веке ассоциировался с постелью императрицы, в начале XIX века вызывал в сознании образ Бонапарта под Тулоном или на Аркольском мосту (ср. „мой Тулон“ князя Андрея в „Войне и мире“). Изменились не только средства, но и цели: честолюбец XVIII века был авантюрист, мечтающий о личном выдвижении, честолюбец начала XIX века мечтал о месте на страницах истории. Придворная жизнь александровской эпохи почти не знала тех головокружительных взлетов и падений, которые, став столь характерными для царствования Екатерины, были доведены Павлом до карикатурности. Только война, расковывая инициативу сотен младших офицеров, приучала их смотреть на себя не как на слепых исполнителей чужой воли, а как на людей, в руки которых отдана судьба Отечества и жизнь тысяч других людей. Участие же в Отечественной войне, активизация гражданского самосознания сливали боевую предприимчивость и политическое вольнолюбие. Пушкин подчеркнул связь между либерализмом и воинским прошлым поколения людей,
Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,
Привыкли [нехотя] лишь к пороху [да к] полю[238].
Парад был прямой противоположностью — он строго регламентировал поведение каждого человека, превращая его в безмолвный винтик огромной машины. Никакого места для вариативности в поведении единицы он не оставлял. Зато инициатива перемещается в центр, на личность командующего парадом. Со времен Павла I это был император. Тимофей фон Бок, имея в виду павловские замашки Александра I, писал: „Почему император так страстно любит парады? Почему тот же человек, которого мы знали во время пребывания в армии в качестве незадачливого дипломата, превращается во время мира в ярого солдата, бросающего все дела, едва он услышит барабанный бой? Потому что парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет“[239].
Если бой ассоциировался в сознании современников с романтической трагедией, то парад отчетливо ориентировался на кордебалет. Показательно балетоманство Николая I. Александр I был равнодушен к драматическому и оперному театру — всем видам зрелищ он предпочитал парад, в котором себе отводил роль режиссера, а многотысячной армии — огромной балетной труппы. „Фрунт“ был наукой и искусством одновременно, и соображения красоты, „стройности“ всегда оказывались тем высшим критерием, которому все Павловичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою собственную популярность в армейской среде, и боеспособность армии. Конечно, легкомысленно было бы видеть в этой устойчивой склонности лишь проявление странных личных свойств Павла и его сыновей: парад становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия.
Не следует упускать, однако, из виду, что, хотя фрунтомания встречала почти единодушное осуждение в среде боевого офицерства (документальные свидетельства этого многочисленны и красноречивы), наука фрунта входила в точное знание тайн службы и игнорировать ее не мог ни один военный. Знатоком строя был П. Пестель, а декабрист М. Лунин снискал расположение фанатичного сторонника фрунта великого князя Константина не только рыцарством и безумной отвагой, но и тонким знанием тайн строевой службы. По свидетельству очевидца, „Лунин взялся доказать непригодность уланской амуниции для настоящего дела. Константин скомандовал своим уланам:
— Принимать команду от подполковника Лунина!
Лунин скомандовал: „С коня!“ и, не дав времени коснуться земли, снова скомандовал: „Садись!“ При этой поспешности все крючки, шнурочки и пр. полопались, разорвались, отстегнулись, и пышные уланские наряды оказались в самом плачевном состоянии. „Свой брат! Все наши штуки знает“, — заметил при этом Константин“[240].
Эстетика парада не могла быть полностью чуждой ни одному профессиональному военному, и даже у Пушкина в „Медном всаднике“ находим строки, посвященные ее „однообразной красивости“ (что не мешало Пушкину осознавать связь однообразия и рабства; ср.: „Как песнь рабов однообразной“). И эстетика парада, и эстетика балета имели глубокий общий корень — крепостной строй русской жизни.
В ситуации „Наполеон на поле боя“ и „Павел I на параде“, при всем очевидном различии, имеется и существенное сходство. Оно заключается в том, что происходящее разделено на два зрелища. С одной стороны, зрелище представляет собой масса (в бою или на параде), а зритель представлен одним человеком. С другой — сам этот человек оказывается зрелищем для массы, которая выступает уже как зритель. На этом сходство, пожалуй, кончается. Рассмотрим обе стороны этого двойного зрелища.