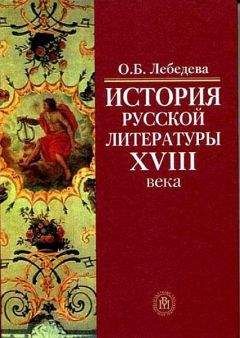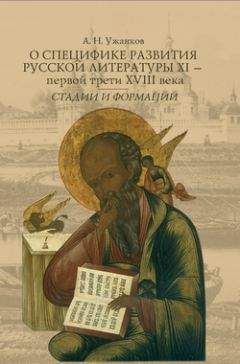Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
Няня поставила Наполеона на печку, чтобы немного подогреть молоко. Она так делала каждый день, и молоко, и чашка обычно чуть тёплые. А на этот раз Наполеон перегрелся, я обожглась, выпустила чашку из рук и она разбилась на мелкие осколки.
В ужасе и горе, заливаясь слезами, я кинулась к Марине: «Мариночка, я разбила Наполеона! Мариночка, я разбила Наполеона!» Марина не рассердилась, она взяла меня на руки, утешала, говорила, что я не виновата. «Виновата! — кричала я, не унимаясь, — виновата! Я разбила Наполеона!»
Тогда Марина достала из шкафчика другую, ярко-синюю снаружи и золотую внутри, чашку. На ней в белом кружочке была нарисована красивая женщина с голыми руками и плечами, на которые спускались завитки чёрных волос. «Видишь, это императрица Жозефина, жена Наполеона. Он её очень любил. И я тебе подарю эту чашку — взамен той — когда ты немножко подрастёшь!» Но мне становится ещё более жалко разбитого Наполеона. Оказывается, у него была жена! Жена-императрица! Которой я разбила мужа...
Серёжа может очень хорошо нарисовать всё, что захочешь, всё, что ни попросишь. Особенно ему удаются львы. Про львов он рассказывает сказки — самые мои любимые, и тут же рисует их на бумаге. Ещё он умеет «показывать льва» — делает лицо, как у настоящего
льва, и этого папу-льва я люблю ещё больше, чем просто папу. Марина же умеет «показывать рысь». У меня же ничего не получается. Когда я тоже хочу показать льва и рысь, мне говорят «не гримасничай». Папа и мама иногда называют друг друга шутя «лев» и «рысь».
Когда мы с Мариной ходим гулять, то всегда подаём нищим. Нищих очень много - это старые, сгорбленные, бедные, больные люди. Некоторые говорят «подайте Христа ради», другие молчат, но мы подаём всем. Обычно нищие сидят на скамейке или прямо на земле и держат перед собою шапку, в которую надо класть копеечки. У некоторых нищих бывает очень много копеек в шапке, эти, видно, богатые, а есть и такие, у которых шапка совсем пустая. Марина очень близорука, и поэтому я всегда показываю ей: «Мариночка, вон нищий сидит!» Марина даёт мне монетку, и я бегу опустить её в шапку нищего. Вот и на этот раз — Марина ещё ничего не видит, а я уже обнаружила нищего, сидящего на лавочке с фуражкой в руках. Бегу к нему с зажатой в кулаке копеечкой, опускаю её в фуражку — этот нищий очень бедный, на дне его фуражки ни грошика. Зато одет он очень красиво, штаны у него с лампасами и фуражка с околышем. И борода у него красивая, расчёсанная на две стороны. Но зато он неблагодарный и невежливый — вместо того, чтобы сказать «Спаси тебя Господь, деточка», он вскакивает и начинает так кричать на меня и на подошедшую Марину, что мы обе пугаемся. Марина достаёт лорнет и смотрит на нищего, а тот топает ногами, обутыми в блестящие штиблеты, и выкрикивает глупые слова: «издевательство! насмешка!». Марина складывает лорнет, хватает меня за руку, и мы убегаем за угол. — «Он сумасшедший, Мариночка?» — спрашиваю я в испуге. «Это ты сумасшедшая, — отвечает Марина, сердясь и смеясь. - Подать копейку генералу! генералу, сидящему на собственной лавочке возле собственного особняка! Как ты могла принять его за нищего?» - «Но ведь он старик, Мариночка!» Раз старик — значит нищий. Разве непонятно?
Я никак не могу научиться, во-первых, спускаться с лестницы, как взрослые, - мне непременно нужно ставить обе ноги на каждую ступеньку, и, во-вторых, отличать правую руку от левой, правую сторону от левой. В правой и левой сторонах нет ничего достоверного, ничего раз и навсегда, к чему можно было бы привыкнуть.
Такие прочные и незыблемые веши, как, скажем, церкви и дома, по непонятным для меня причинам оказываются то справа, то слева,
не сходя притом с места. Стоит мне, маленькой девочке, повернуться, как весь мир перемещается, здания и деревья, собаки и люди словно перебегают за моей спиной с одного тротуара на другой. Марина говорит, что всё очень просто, что правая сторона всегда там, где моя правая рука. Но которая же из рук - правая? Та, которой я крещусь. Крещусь я одинаково и той, и другой. По одной из них иногда шлёпают, говоря, что это — не та, но я забываю, по которой. Обе руки у меня совсем одинаковые, обе умеют держать и ложку, и карандаш. Ноги у меня тоже одинаковые, но башмаки для них - разные. Когда я обуваюсь сама, мне говорят: «не на ту ногу». Я переобуваюсь, и опять оказывается «не на ту ногу». Какая же нога - та! Какая же рука -та! Какая сторона - та!
Пока я ничего не знала про правое и левое, всё было хорошо и ясно. Теперь всё перепуталось и усложнилось, и в этой путанице не на что опереться, чтобы не ошибаться. Вот пришёл гость — чаще всего это Володечка Алексеев10, который всегда мне приносит подарки. Он, здороваясь, протягивает мне руку. Ага, вот, значит, с какой стороны у него правая рука! С этой же стороны должна быть и моя. Протягиваю свою — и, конечно, моя оказывается левой. Но почему же, почему? Марина, потеряв надежду объяснить мне в чём тут дело, говорит папе: «Вот увидите, Серёженька, она так же, как и я, будет абсолютно неспособна к точным наукам!»
Наши с Мариной прогулки в Храм Христа Спасителя всегда для меня отравлены лестницей. Подниматься по ней легко и весело, но ведь я заранее знаю, что с этих же ступенек придётся спускаться, а я не умею спускаться с лестницы как все люди, как все дети, и Марина будет опять учить меня и сердиться. Так оно и есть. Уже позади огромные, гулкие, торжественные, раззолочённые глубины и высоты храма, такого большого, что внутри него стоит часовня, большая, как целая церковь. Уже позади стоящие вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от людей золотым шнуром. Это — царские кресла, на них сам царь сидит, на любом, на котором только захочет, во время службы.
Всё приятное и красивое позади — впереди же бесконечная, вниз уходящая серая лестница, по которой я должна спускаться, как все люди.
У меня плохая память, лишённая стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат, и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать огромную книгу — пусть с разрозненными страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!
Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и попранное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери - и о времени.
Ранние мои воспоминания о матери похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа ещё нет, потому что глаза мои не умеют охватить его, а разум — собрать воедино, обобщить разрозненное. <...>
Мать отличается от остальных взрослых тем, что она была всегда, а остальные когда-то появились впервые, чем-то удивив и поразив, и тем самым насильственно и зачастую случайно войдя в мою жизнь и запав в память. Всегда был и отец — но как-то реже и менее действенно, чем мать.
Мать — это прежде всего руки, — руки, разрывающие окружающий меня туман ещё неведомого и невнятного мне мира, руки — первая реальность, первая движущая сила моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они полны блеска и света серебряных перстней и браслетов, света, который приходит и уходит вместе с ней и от неё неотделим. Блестящие руки, потом блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос — стремительность и гибкость движений и интонаций — вот мать моего младенчества. Вслед за руками, глазами, голосом, проблески моего сознания воспринимают именно её силу, именно её власть надо мной. Няня проводит со мной дни и ночи, однако надо мной властна не она, а мать. Дальше, когда я становлюсь немного старше и начинаю что-то обобщать и сопоставлять, появляется чувство материн-
7 Текст написан на отдельных листах, хранящихся в фонде М. Цветаевой в РГАЛ И (Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 328).
ской необычности и несхожести с другими, хотя в чём заключается эта несхожесть определить я, конечно, не в силах, ещё некоторое время спустя к этому примешивается сперва ощущение, потом уверенность в её красоте, в её молодости и — в её правоте во всём. Для меня маленькой мать была бесспорно права всегда, так же, как бесспорно неправы были те, кто перечил ей и возражал, хотя бы заступаясь за меня. Красоту же и молодость её я поняла внезапно в тот день, когда дотоле разрозненные для меня её частицы, плававшие в хаосе младенческого моего восприятия, неожиданно слились воедино; так из букв складываются слога, а из слогов, квадратных и неодушевлённых, как кубики, вдруг само собой сливается, сплавляется единое и неделимое слово — и ты, оказывается, уже умеешь читать!