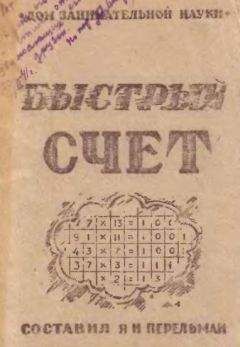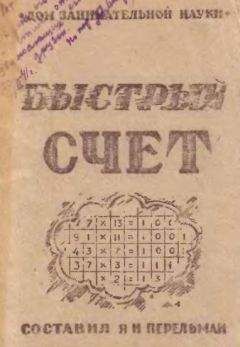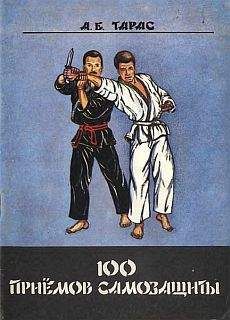Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
— Знаете, что, Ю.М., хватит вам мучиться над этой рукописью. В самом деле, хватит! Устали уже, наверное. Сколько можно! Оставьте мне ее на месячишко. Я текст перепишу, как требуется, может, вдвоем с помощником — не возражаете? Друг на друга обопремся. Не сомневайтесь, сделаем все, как надо, и она с колес пойдет. Железобетонно… Хорошо?
От изумления я остолбенел. И не прощаясь, двинулся к двери. Отношения прервались, рукопись на некоторое время зависла.
И только внезапное наступление перестройки, перетряхнувшее тину прошлой эпохи, в том числе и в издании биографий, вдруг вытолкнуло эту залежалую и искалеченную книгу в свет.
Новым заведующим редакцией ЖЗЛ стал тридцатилетний выпускник философского факультета МГУ, кандидат наук. Человек эрудированный, притом с особой сферой творческих интересов. Он занимался культурой и литературой русского эмигрантского зарубежья. Издана была у него уже и собственная книга на эту тему. Позже под научной редакцией A.Л. Афанасьева и с обстоятельным его предисловием в нескольких томах вышла антология текстов «Литература русского зарубежья» (изд-во «Книга»).
Кто такой Федин, в данном случае объяснять не требовалось. Прозу Федина высоко ценил Бунин, да и вообще знали в эмигрантской среде, широко переводили на Западе. Новому заведующему я твердо заявил, что ни при каких обстоятельствах с N больше работать не стану. Кончилось тем, что Афанасьев вызвался лично быть редактором книги. Перечитав рукопись, вставил ее в план выпуска. Теперь нависали сроки выхода. В основном приходилось довольствоваться той искалеченной рукописью, в какую она обратилась в результате многоглазых чтений, пятилетних рецензирований, выстругиваний, шлифовок, срезаний острых углов и т.д.
Со всеми этими отметинами данному детищу и предстояло гулять по свету. Но на том дело не кончилось. Прежний долголетний попечитель, хотя и не был больше моим редактором, но продолжал сидеть в своем кабинете и, судя по всему, не зря. В этом скоро мне пришлось убедиться. На суперобложке вышедшей в 1986 году книги нежданно-негаданно появилась многозначительная черная отметина, набранная, однако, малоприметным, мелким типографским шрифтом — цифра 666.
Вообще-то на суперобложке, как это и следовало, стояло: «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Серия биографий. Основана в 1933 году М. Горьким. ВЫПУСК 4». Это означало, что «Федин» — четвертая книга ЖЗЛ за 1986 год. И только в самом низу, под словом ВЫПУСК 4, крохотными, почти микроскопическими циферками было выставлено в скобках (666). Традиционно следовало читать, что таков порядковый номер книжки с момента, как серию создал Горький в 1933 году. Но, возможно, это и была некая ядовитая стрела, призванная сразить автора?
В массовом обиходе советских времен подобная символика сознавалась разве на уровне туманных отталкиваний, вроде как число 13. Плохо, мол, лучше не надо — и все тут! Тогда как 666, согласно евангельскому «Откровению святого Иоанна Богослова», это число Зверя, знак сатаны.
Впрочем, бывают же и чисто технические совпадения? Раз числа 13 или 666 существуют, значит, когда приходит черед, кто-то их должен носить. Может, это вовсе и не чья-то злая воля, а случайное совпадение? Тем более что с порядковой нумерацией выпусков за столь долгий и бурный срок с момента создания горьковской серии существовало много хаоса и неразберихи. Требовалось проверить.
Оказалось, что «пострадал» таким образом не я один. В нынешнем печатном Каталоге ЖЗЛ раздел книг, явившихся на свет в 1986 году, кончается извещением. Оно набрано частоколом из крупных заглавных букв. «ВЫПУСК 666 ОШИБОЧНО ПРИСВОЕН ДВАЖДЫ», — гласит предупреждающая надпись. Второй книгой, носящей ту же цифру 666 (Знак сатаны), почему-то является книга «Писемский» другого автора. Кто же в таком случае «грешник» реальный, а кто попал в этот разряд по умышленному произволу или технической случайности? «Федин» или «Писемский»? Или же оба вместе?
У меня в избытке было аргументов и доказательств реального оборота событий. Но на проявление закулисья вдобавок сработали обстоятельства. В следующем году одну из книг переиздавали. У редакции были время и шанс, чтобы разобраться с путаницей и на сей раз восстановить истинную нумерацию. Переиздавался «Писемский». И что же? Маленькая циферка осталась там — 666. Книга «Писемский» хорошая, и качества ее тут совершенно ни при чем. Значит, с моей книгой кто-то нарочито схулиганил. Смачно плюнул вслед: мол, более сатанинской книги еще с незапамятных времен и десятилетий не издавалось. Кто же даже чисто технически мог это сделать? Гадать не приходилось.
Стрела метила в автора. Но в результате тень поневоле падала и на героя. Об этом происшествии я сделал представление в издательстве. Но тираж был уже отпечатан, исправить ничего нельзя. «Бросьте, Ю.М.! — утешали меня в верхних кабинетах. — Кто это заметит и поймет? И кому это нужно? Да и отстранение от редактирования книги — тоже чего-то стоит. Надо учесть…» Словом, раздувать историю не стали.
Вещь, конечно, из дали времен не просто хулиганская, но и до невежества нелепая. Если вспомнить предъявлявшиеся до сих пор требования по доработке книги в сторону, что называют, прямо наоборот — изготовления некоего сусального кремлевского пряника. А теперь… Не хочешь, мол, совсем идеального героя, коммуниста из коммунистов, не слушаешься руководства и меня лично, нарушаешь неписаные установления и порядки, ущемляешь мои и еще чьи-то там хотения, так вот на тебе — как курице на свежеснесенном яйце, цифирка, черная метка — 666. Мы же — коммунисты, комсомольцы, но и православные к тому же… Впрочем, мало ли карикатурного происходило и происходит у нас? Я же тогда впервые столкнулся с разносчиками клеймящих литературных страшилок, а их немало — от фашистских знаков до производства автора в масоны. Узнал им цену. И утешился мыслью, что читатель разберется. А всякие заигрывания с символикой скверны еще никогда не заканчивались добром для самих затейщиков.
Так было с этой ЖЗЛовской биографией «Федин», вышедшей в 1986 году обычным по тем временам тиражом 150 тысяч экземпляров. Но параллельно и почти одновременно развертывались литературные события, в центре которых был другой ученик этого писателя, гораздо более к нему близкий и осведомленный. Этим учеником был Юрий Трифонов.
«Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? — декларировал Ю. Трифонов на открытии своего романа “Время и место”. — Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожимо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».
Было это в 1981 году. Книга печаталась в журнале «Дружба народов» и оказалась последней из того, что он написал.
Среди прочего в этом произведении Трифонов предпринял попытку в романной форме разобраться в давних отношениях, которые его много лет занимали и волновали, — в психологии и характере человека, которому был немало обязан. Этим человеком был советский классик и руководитель Союза писателей СССР Константин Федин. Тема книги — совесть и страх перед жизнью. Память романиста ощупывает события былого, начиная с первых проб пера, учебы в Литературном институте и дальнейших жизненных поворотов.
Рядом с мятущимся в поисках собственного пути молодым прозаиком Антиповым (во многом «альтер эго» автора!) представлен его литературный наставник еще студенческой поры Борис Георгиевич Киянов. К нему влечется и от него отталкивается Антипов.
Киянов — профессиональный мэтр с громким прошлым и сомнительным настоящим. Человек, способный к глубоким внутренним оценкам, оригинальным суждениям и выводам, не исключая и благородных поступков. Но слабовольный и нерешительный. Он находится под каблуком у своенравной и болезненно-деспотичной жены. Пятнает совесть нечистоплотными литературными сделками и общественными компромиссами. Сам это хорошо сознает, но уже не может остановиться и плывет по течению. От неудовлетворенности собой Киянов сторонится людей, проваливается в полное одиночество, попивает.
Что его толкает на это? Страх от давящей пяты сталинской диктатуры? Со многими душевными разветвлениями таких состояний не может справиться Киянов. Но дело не только в этом. Окружающая действительность, где трудового человека ежедневно подстерегают перенапряг сил, неопределенность обстоятельств, а в конце концов неизбежные болезни и смерть, и без того слишком опасна и страшна. А писатель Киянов внутренне слаб и среди жизненных предпочтений делает ставку на покой и благоденствие. Маленький штрих, выражающий внутренние стремления: «Всегда Киянова сопровождал особый писательский запах благополучия — трубочного табака и одеколона». Детали, прямо списанные с прототипа.
Главный болезненный психологический синдром Киянова, как его в конце концов диагнозирует Антипов, — это «страх перед жизнью, точнее, перед реальностью жизни».