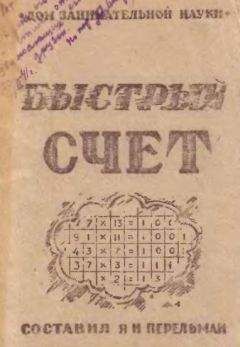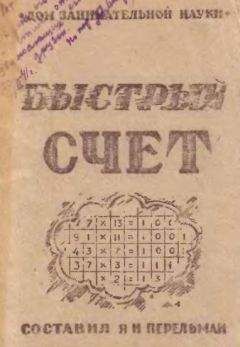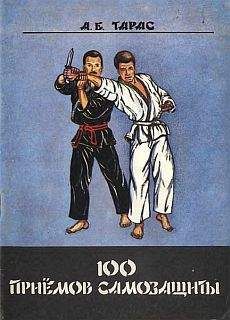Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
«Страна Муравия» принадлежит к облюбованному автором и в дальнейшем жанру так называемых проблемных поэм, где живописуются и истолковываются важные идейно-политические события эпохи. В большом по объему произведении немало искренних страниц, выразительных картин и психологических характеристик. Даже в незамысловатых переплясах чувствуется рука талантливого мастера. Но итог поисков главного героя заведомо предрешен. В конце поэмы неугомонно пытливый Никита Моргунок (фамилия тут ведь тоже что-то значит — моргавший и проморгавший, по-видимому, что-то важное в событиях эпохи?) лишь вынужден всенародно покаяться, что столько сил и дней понапрасну потратил на бесцельные скитания, тогда как их можно было обратить в весомые колхозные трудодни. Что с одобрением встречается толпой окруживших героя счастливых колхозных сельчан, нередко напоминающих, впрочем, искусственно изготовленных пейзан.
Вот отчего даже Горький, некогда призывавший молодого поэта Твардовского крупно воспеть колхозное преображение российской деревни, первый вариант поэмы сопроводил суровой оценкой: «Не надо писать так, — отзывался он, — чтобы читателю ясны были подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то набор частушек и т.д. Автор должен посмотреть на эти стихи как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что “поэмы” такого размера, то есть в данном случае — длины — пишутся годами…»
Но просчеты формы обусловлены нарочитыми заготовками смысла. Конечный вывод, к которому ведут все сельские скитания и мыслительные поиски бродячего героя Никиты Моргунка, известен заранее — для единоличника нигде нет лучше, чем в колхозе. Для советской литературы поэтическая «Страна Муравия» Твардовского стала, может, и не таким значительным художественным созданием, как шолоховский роман, но своего рода второй «Поднятой целиной», произведением того же плана, только на сей раз не в прозе, а в поэзии.
Федин был старше Твардовского на 18 лет. Но между первыми звучными дебютами обоих писателей, давшими им имя в большой литературе, — между романом «Города и годы» о погибшей под давлением жизненных обстоятельств любви и поэмой Твардовского о якобы счастливой деревенской нови — есть известная перекличка своих в каждом случае трагических автобиографических смыслов. Прямых или косвенных духовных компромиссов.
Федин за право стать одним из крупнейших писателей заплатил подавлением глубокого чувства, изменой в любви. Озорная и голосистая вроде бы «Страна Муравия» вместе с тем — поэма душевных ран. Нигде нет лучше, чем в колхозе?! И это заявлял человек, у которого был раскулачен отец, деревенский кузнец, и в дальние ссыльные сибирские края загнаны самые близкие люди — вся родительская многодетная семья.
Отец Трифон Гордеевич Твардовский, великий труженик, всю жизнь вертелся между жаром горна-наковальни и тощей полоской глинистой земли. За это он удостоился бранной клички — «кулак». Вся семья, включая отца, мать и младших братьев, оказались в ссылке в Северном Зауралье. Сам Александр избежал общей участи только во внимание к его идейной комсомольской убежденности, селькоровской активности и первым стихотворным опусам типа поэмы «Путь к социализму» (1931 г.).
Брат поэта Иван Трифонович Твардовский позже в мемуарной книге «На родине и на чужбине» воссоздал тогдашние семейные обстоятельства. В ссылку, пишет он, «пришло от Александра два письма. Первое было чем-то обнадеживающим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие:
“Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более — детей…”
Письмо этим не кончалось, сидела в строчках чуть скрытая готовность к разрыву: “…писать я вам не могу… мне не пишите…” <…> Больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года».
Впрочем, случилось еще и гораздо худшее. Когда раскулаченный кузнец с меньшим сыном Павлушей бежал из холодно-комариного ссыльного края и явился за поддержкой к сыну — начинающей литературной знаменитости — в Смоленск, тот, устремив твердый взгляд светлых глаз мимо обоих, выговорил четко: «Я могу помочь только тем, чтобы бесплатно вернуть вас туда, откуда вы бежали». Таков был этот юный боец партии.
Суровый нравственный расчет с самим собой Александр Трифонович провел десятилетия спустя в поэме «По праву памяти», послужившей в 1970 году одним из поводов для расправы с непокорным редактором журнала «Новый мир». Но это произойдет почти через сорок лет.
А в середине 30-х годов поэма «Страна Муравия» ввела Твардовского в большую литературу, на все лады была воспета советской критикой, получила Сталинскую премию. Но читать ее теперь могут разве дотошные историки литературы, а публично заговорить главный болезненный изъян не удается даже самым пылким приверженцам поэта.
Итак, Федин и Твардовский были ближайшими журнальными коллегами эпохи «оттепели»… В их отношениях иногда проскальзывала и усталая умудренность от переживаний былых лет. Твардовский хорошо знал и высоко ценил лучшие произведения Федина, в том числе и о русской деревне. Об этом он прямо заявляет и в своем критическом «Открытом письме»: «Я знаю Вас, Константин Александрович, как писателя с моей ранней юности, — высказывается он там, — когда впервые прочел Ваш “Трансвааль” (кстати, не помню, чтобы Вы письменно или изустно каялись, когда, где-то в конце 20-х годов, Вас обвиняли за эту вещь в “апологии кулачества” и т.д.)».
Твардовский высоко ставил Федина как мастера литературы, считал своим союзником также и вне журнала.
В 1961 году Твардовский за поэму «За далью даль» был удостоен Ленинской премии. А Федин в том же году начал печатать в «Новом мире» роман «Костер». Главный редактор ценил уже близкую тогда к завершению первую и, кстати, художественно наиболее сильную книгу романа. 16 августа, прочитав журнальную верстку, Твардовский писал автору из Барвихи: «Здесь прочел продолжение “Костра” в верстке… Читал и радовался за Вас, за нас и за читателя, который уже столько лет не имел такого основательного чтения».
В сюжетных историях о людях искусства Твардовский выделял, в частности, фигуру писателя Пастухова (близким прототипом в данном случае являлся А.Н. Толстой, друг и приятель романиста, чья способность к изготовлению драматургических поделок составляла не самую сильную сторону этого многогранного выдающегося таланта). «…Герой Ваш в этой книге, — писал Твардовский, — начинает жить более сложной и трудной жизнью, чем в предыдущей, и он от этого становится, по человечеству, симпатичней и ближе читателю».
В качестве мелких погрешностей главный редактор называл отдельные, «совершенно блошиные» случаи «архаичного словоупотребления: м.б., нарочито архаичного». И приводил примеры из лексикона того же Пастухова. Скажем, слово «билет» в смысле дензнака («тридцатка», «сотня», «десятка») или слова «автомобиль»: «“Автомобиль” тоже говорят иные, но среди множества машин “автомашина” (кажется, в документах ТАСС) — в живом языке стала только “машина”. Или еще: “на театре” — это в какой-то мере для форсу говорят околомхатовские круги, но у Вас так говорит, кажется, Парабукин (на вокзале, когда пьют пиво)». Твардовский не настаивал на своих замечаниях: «Это говорит не редактор, а Ваш читатель, из Ваших коллег».
21 августа 1961 года Федин ответил большим письмом. Спор мастеров такого класса о языковых тонкостях всегда любопытен. Стоит поэтому чуть развернуть то, что пояснял Федин.
Театральный классик Александр Владимирович Пастухов, большая часть жизни которого прошла до революции, — человек консервативных привязанностей, оберегающий свой душевный комфорт от излишних вторжений, в том числе без крайней надобности — и от новых словечек. Недаром и по пристрастиям своим он — антиквар, знаток и любитель старины (также приметы, перешедшие от прототипа — А.Н. Толстого). К тому же маститый драматург в собственном представлении и в глазах домашних — персона исключительная. И обладатель он не какой-нибудь заурядной «эмки», а заграничного «кадиллака». Нет, Александр Владимирович не станет переучиваться и без крайней надобности переходить на новые словечки. Пусть у всех других будут «машины», у него, Пастухова, единственный в своем роде «автомобиль» или «кадиллак».
«Автомобиль» и «кадиллак» и употребляются обычно в романе, когда изображение дается через восприятие Пастухова. Вот почему, когда этот законодатель здешнего репертуара, оскорбленный недооценкой новой своей пьесы руководством Малого театра, величественно удаляется из оскорбивших его пределов, — искать решений «наверху», — он усаживается «в автомобиль, чтобы ехать в Комитет по делам искусств». И откидывается на сиденье собственного «автомобиля» и т.д. И разве что в случаях исключительных Александр Владимирович может назвать свой «автомобиль» или «кадиллак» — «машиной». Зато для Матвея Веригина хозяйский «кадиллак» — машина, как и другие, на которых он работал шофером.