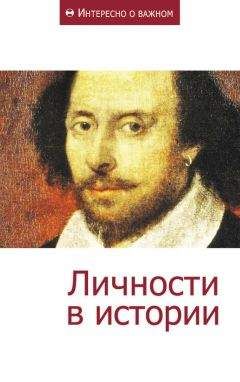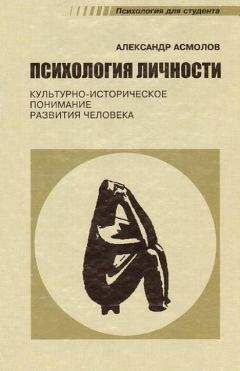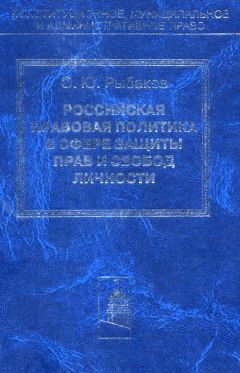Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
XI. ПАВЕЛ СМЕРДЯКОВ И ИВАН КАРАМАЗОВ
(Проблема искушения)Существуют литературные репутации (у писателей, у книг, у героев), которые настолько прочно устоялись, что кажутся едва ли не от века данными и уж во всяком случае, незыблемыми. Между тем эта незыблемость объясняется порой только инертностью нашего восприятия. И вот когда-то данная трактовка какого-либо героя или романной ситуации кочует из работы в работу, приобретая со временем вид аксиомы, не требующей доказательств. Происходит это чаще всего в том случае, когда герой или ситуация кажутся нам почему-либо второстепенными или «не самыми главными», а, стало быть, от их решения вроде бы не зависит концепция целого. Однако по поводу иных ситуаций стоит ещё призадуматься, действительно ли они второстепенные и маловажные, тем более что в настоящем художественном произведении даже второстепенные детали во многом могут прояснить нам замысел и позицию писателя.
Мнение, что Павел Смердяков является всего-навсего послушным орудием в руках Ивана Карамазова, выполнителем его злой воли, было высказано ещё в прошлом веке Орестом Миллером: «Несчастный Смердяков, слепо подчинившись идеалу Ивана… совершил преступление»{315}. С тех пор с разной степенью сложности и доказательности, а чаще просто мимоходом (ведь вопрос-то вроде бы второстепенный, а нас интересуют в романе столкновения Добра и Зла, Великий инквизитор и т. п.) утверждается, что «Смердяков — это, так сказать только практик уголовщины. За ним у Достоевского возвышается фигура Ивана Карамазова, идеи и представления которого, как убеждён писатель, толкнули Смердякова на преступление, оправдывали и даже возвышали убийцу в его собственных глазах»{316}. Тем самым, возлагая всю полноту ответственности на одного героя, мы целиком и полностью освобождаем от всякой ответственности другого героя. Но если так, то соответственно прямым и недвусмысленным убийцей оказывается Иван, а точнее даже, следуя логике этой мысли, он оказывается «носителем зла» в поэтическом мире романа. В глубоком и авторитетном исследовании В. Е. Ветловской эта позиция резюмируется в следующих словах: «Итак, Алёша (и читатель), слушая Ивана, слушает самого дьявола»{317}. Но в таком случае природа Ивана выглядит вполне однозначной, а все его терзания, самообвинения, двойственность и многозначность слов и поступков как бы признаются несущественными, то есть тем самым упрощается структура этого образа, упрощается и понимание вины и ответственности, отстаиваемое писателем, а также приходит в весьма заметный внутренний разлад весь образный строй романа. Явная повторяемость и как бы генетическая связь образов Смердякова и чёрта («лакейство») оказывается случайной и художественно необязательной, а беседы Ивана со Смердяковым, а далее с чёртом, искушающим героя, становятся бессмыслицей, если герой сам является безусловной силой зла («дьяволом»).
Вместе с тем оценка того или иного героя важна не сама по себе, особенно у такого писателя, как Достоевский, гораздо существеннее увидеть за ними мировоззренческую систему, выдвигаемую писателем, понять его нравственно-эстетическое кредо.
Если принять точку зрения на Смердякова как на пассивного убийцу, слепое орудие в чужих руках, всего лишь выполняющего замысел Ивана, то мы естественно приходим в противоречие с общемировоззренческой и поэтической концепцией мироздания у Достоевского, полагавшего, что человек полностью несёт ответственность за свои поступки, из какого бы общественного слоя он ни был, как бы ни был неразвит. Рассказывая о крестьянине, который довёл до самоубийства свою жену, Достоевский восклицает: «"Неразвитость, тупость, пожалейте, среда", — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жён своих за ноги! Ведь всё-таки тут должна быть черта… С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей "средой"»{318}. Человека можно за многое простить (Митя), простить, но не снять с него ответственность, и не только за поступок — за намерение (Иван). «Среда», внешние обстоятельства человека, по мысли писателя, не определяют и не оправдывают. У нас же получается, что Смердякова вынудили к убийству посторонние обстоятельства (ведь чужая воля есть тоже внешняя причина), а сам он не виновен.
Стоит ещё напомнить, что перед нами роман о братьях Карамазовых, где каждый ведёт свой жизненный и идейный мотив, причём не о трёх братьях, а о четырёх, ведь Смердяков, как неоднократно даётся понять в романе, — незаконный сын Фёдора Павловича и, стало быть, брат центральных героев. Более того, если Иван и Митя являют собой натуры мятущиеся, неустоявшиеся, ищущие добро и правду, на этом пути совершающие проступки и преступления, то Алёша, с одной стороны, и Смердяков — с другой, суть некие твёрдые ориентиры добра и зла. Сразу за исповедью Мити и задолго до того, как Иван изложит Алёше своё понимание мироздания (книга «Pro и contra»), Смердяков в главе «Контроверза» (то есть спор, столкновение; характерно, что латинское заглавие как бы подчёркивает близость проблематики брата законного и незаконного — Ивана и Павла) тоже излагает в споре своё кредо, но в отличие от Ивана, пытающегося взвесить и оценить в своём сердце как pro, так и contra, он однозначен и произносит апологию предательства, своего рода «оправдание зла»{319}. Не случайно (я попытаюсь показать это дальше) Иван мечется между Алёшей и Смердяковым.
Смердяков не безумец, не сумасшедший, тем более не «слабоумный идиот», как его называют в романе обыватели, хотя и припадочный, эпилептик. Им был продуман и тонко исполнен план не только с конвертом, который он надорвал и бросил, как сделал бы человек, не знающий, есть ли в нём деньги, тем усилив подозрения на Митю, он разыграл и спектакль с падучей. Наделив Смердякова эпилепсией, как и своего любимого героя — князя Мышкина, Достоевский словно подчёркивает его выделенность из среды «здоровых» Ракитиных (Ракитин кстати, напоминает своей посредственностью и крепким житейским умом Ганю Иволгина), выводит его «из ряда» бытовых персонажей. Но Смердяков противоположен Мышкину, ибо, по мысли писателя, эпилепсия развивает в человеке в некоторые моменты повышенную остроту ума и проницательность, которые можно употребить и на доброе и на злое дело. Вся суть в нравственной основе человека{320}.
Нас всегда поражает, когда художник, опережая своё время, исторически точно рисует тип человека, который он, казалось бы, не мог наблюдать. «Достоевский смог, — писал Музиль, — уловить в XIX веке зарождение той социально-психологической опасности, какой является фашизм»{321}. В нашей литературе также не раз отмечалось, что явление фашизма и сталинизма в XX веке подтвердило трагические прозрения писателя{322}.
Сила Достоевского, позволившая ему предугадать коллизии будущего, заключалась в его нравственном максимализме, в том, что он возлагал на человека, особенно в вопросах жизни и смерти, всю полноту нравственной ответственности не позволяя перекладывать её на плечи других. И если мы вспомним, что Смердяков вплотную связан с основной проблемой романа — отцеубийством, то станет ясно, что второстепенным персонажем его назвать трудно: он должен быть рассмотрен более пристально, по мерке писателя.
Но вместе с тем он не может рассматриваться и отдельно, ибо он двойник Ивана, а стало быть, становится понятен только рядом с ним. Однако «двойник» — это вовсе не «герой второго плана». Конечно, двойник одномернее, однозначнее, но это вовсе не значит, что он подчинён герою, напротив, как правило, бывает наоборот. Вспомним стивенсоновский «Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом», где сотворённый из злых сторон души доктора мистер Хайд постепенно взял над ним верх. Вспомним и то, что у самого Достоевского в петербургской поэме «Двойник» Голядкин-младший оказывался решительнее, находчивее, подлее и, в конце концов, затирал Голядкина-старшего, который сохранил ещё элементы порядочности, что и мешало его преуспеянию. Но в этом романе двойник был в полном смысле двойником, повторяя не только облик, но даже фамилию, имя и отчество героя. В «Братьях Карамазовых» дело обстоит сложнее, но и там двойник кровно связан с героем, с его некоторыми не осознаваемыми им самим желаниями, однако связан не прямолинейно, не «лобово», что и создаёт известные трудности в осмыслении их взаимоотношений. Смердяков, замечает М. Бахтин, «овладевает постепенно тем голосом Ивана, который тот сам от себя скрывает. Смердяков может управлять этим голосом именно потому, что сознание Ивана в эту сторону не глядит и не хочет глядеть»{323}. Во всяком случае, как бы то ни было, двойник никогда не отождествляется с лирическим героем автора (то есть героем, решающим личностно-метафизические проблемы). Если же мы заявляем, что Смердяков является простым исполнителем чужих идей, то пропадает вся сложная диалектика взаимоотношений героев, становится невнятной — или банальной — причина терзаний Ивана, исчезает столкновение двух воль в борьбе за него («не ты!» — Алёши и «ан вы-то главный убивец и есть» — Смердякова), то есть пропадает та внутренняя напряжённость, о которой говорит Митя, что когда «дьявол с Богом борются», то «поле битвы сердца людей».