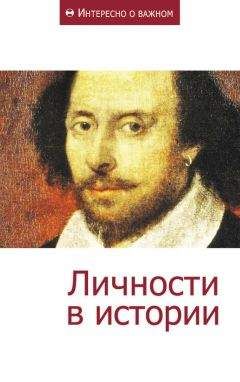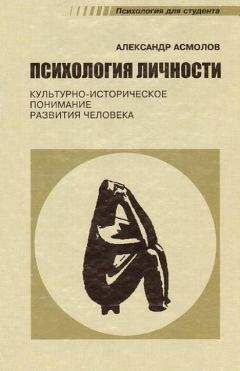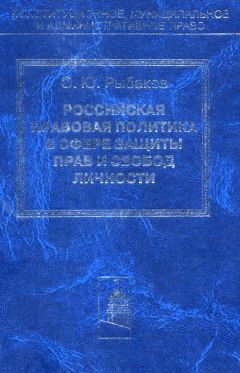Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
« — За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал? Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав». И Раскольников начинает играть по законам того мира, который сам ненавидит. Миру этому оправдания нет ни у Раскольникова, ни у автора, естественно. Но себя-то Раскольников оправдывает: среда, дескать, заела, а против среды не попрёшь. Ну, а автор? Если бы Достоевский поверил герою, то был бы роман размером максимум в одну нынешнюю его первую часть (а не шесть частей с эпилогом), где была бы мысль о губительности среды, о невозможности вырваться из её заколдованного круга.
Однако Достоевский «средой» не ограничивается, и расследование поступка (проступка, преступления) Раскольникова продолжается. И вот Раскольников исповедуется Соне, самооправдания сняты в исповеди: «Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор!.. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу!.. Тварь ли я дрожащая, или право имею…» Не среда губит Раскольникова, а какой-то дефект его личности, строя его души. Тут звучит и тема Наполеона, и ≪тварь дрожащая≫ из пушкинского ≪Подражания Корану≫, но для Достоевского завоеватели — не благодетели людей, а потому нормальный человек не может выдержать их морали. Власть — это вещь, а человек вещью не исчерпывается. И вера писателя в возрождение героя основана как раз на этой мысли. Среда может быть какая угодно, скверная (каторга), но если человек пробудился, то он в любой среде человеком пребудет. Не среда определяет человека, считает Достоевский. Потому-то, кстати, и нет у писателя изображения предметной среды, потому-то и рисует он развеществленный мир, отсюда-то и тянется эта особенность его поэтики.
Достоевский, по словам Вяч. Иванова, «весь устремлён не к тому, чтобы вобрать в себя окружающую его данность мира и жизни, но к тому, чтобы, выходя из себя, проникать и входить в окружающие его лики жизни… Живые сущности, доступ в которые ему непосредственно открыт, суть не вещи мира, но люди, — человеческие личности… Разведчик и ловец в потёмках душ, он не нуждается в общем озарении предметного мира»{314}.
Ведь даже слово Достоевского, язык его героев — не опредмечены. Скажем, в отличие от слова Л. Толстого, Тургенева или Лескова: поразительно пластичного, зримого, даже, кажется, её своим вкусом, запахом, цветом, фактурой, осязательностью. Но случайно, упрекали писатели, что речь его персонажей не индивидуализирована, не конкретна, что все они говорят примерно теми же словами, что и автор. Но это не от слабости. Слово Достоевского свободно, не связано, вещно не обозначено, поэтому вовлекает оно в свою орбиту весь мир — от уголовных деяний до глубочайших философских проблем, и всё это в структуре одного произведения. А для писателя слово есть самое главное, В слове писателя — первооснова, субстанция его поэтики. Поэтому отсутствие в его слове категории предметности о многом уже может нам сказать.
О том хотя бы, что «среда» для него преходяща, что она всего лишь оболочка — оболочки меняются, уходят, а Человек остаётся. Тысячелетиями решительно не меняясь…
Но человеку среда его времени (для каждого свой срок отмеренный — вечность) может казаться незыблемой, и он тогда ей сдаётся и переходит во временную плоскость бытия. Но и тут не среда губит, а человек сдаётся. Среда просто замещает человеческие качества, от которых сам человек отказался. В основном, в главном, в сути она нейтральна по отношению к человеку. Но люди, принявшие за точку отсчёта среду своего времени, и весь мир видят только сквозь «среду», «Среда» оказывается маской, оболочкой, скрывающей истину. Достоевский же мечтал о развеществленном человеке, без масок, о мире свободном — о развеществленном мире.
Что это означает? По всей видимости, некий идеал писателя. Идеал будущей жизни («Сон смешного человека» — Достоевский тоже писал утопии). Любопытно абсолютное отсутствие даже малейшего намёка на какую-либо детерминированность жизни людей этой счастливейшей из Утопий. Понятие необходимости совершенно исключено из их жизни, и предметный мир у них практически отсутствует. «Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались лёгкою пищей, плодами своих деревьев, мёдом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка». Вещи не загораживают от них дышащего мирового космоса, животворящего человека. Они даже «как бы чем-то соприкасались с небесными звёздами, не мыслию только, а каким-то живым путём».
Утопия эта, как, впрочем, и всё творчество Достоевского, полемична. Полемизирует он с утопиями же, строившими счастье человеческое на материальном изобилии, на жёстко расчисленном труде и на науке, которая должна бы строго регламентировать живую жизнь. Во всяком случае, именно этого боялся писатель. Хотя России эта опасность грозила пока лишь умозрительно, в теории. Но именно поэтому реальность европейской, технической и вещистской культуры в некоторых социальных слоях России могла казаться идеалом.
Построения Достоевского тем и интересны, что позволяли не смешивать, не подменять идеал реальностью. Ведь суровые ходы истории слишком часто выдавались за конечную цель. Где можно было увидеть эту техническую реальность, многими принимавшуюся за идеал? И в прошлом веке не в России надо было искать реальные попытки перестроить мир техникой.
1862 год. Всемирная выставка в Лондоне. Демонстрация величайших по тем временам технических достижений. Тысячи людей притекли сюда поклониться — технике, вещи. Здесь и Достоевский: «Да, выставка поразительна. Вы чувствуете ту страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо; вы сознаёте исполинскую мысль; вы чувствуете то, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал? — думаете вы; не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле «едино стадо». Не придётся ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал… »
Достоевский, по-православному отрицая вещное богатство мира как враждебное развитию духовности, был, как подсказывает недавний исторический опыт, излишне прямолинеен, а то и ограничен (ведь, пожалуй, странно в бедной стране говорить во грехе богатства), но с сокровенным, стержневым наполнением его идеала трудно не согласиться. Ибо Достоевский утверждал, что превыше всего всё-таки человек, а человек вещью не определяется и не исчерпывается.
XI. ПАВЕЛ СМЕРДЯКОВ И ИВАН КАРАМАЗОВ
Существуют литературные репутации (у писателей, у книг, у героев), которые настолько прочно устоялись, что кажутся едва ли не от века данными и уж во всяком случае, незыблемыми. Между тем эта незыблемость объясняется порой только инертностью нашего восприятия. И вот когда-то данная трактовка какого-либо героя или романной ситуации кочует из работы в работу, приобретая со временем вид аксиомы, не требующей доказательств. Происходит это чаще всего в том случае, когда герой или ситуация кажутся нам почему-либо второстепенными или «не самыми главными», а, стало быть, от их решения вроде бы не зависит концепция целого. Однако по поводу иных ситуаций стоит ещё призадуматься, действительно ли они второстепенные и маловажные, тем более что в настоящем художественном произведении даже второстепенные детали во многом могут прояснить нам замысел и позицию писателя.
Мнение, что Павел Смердяков является всего-навсего послушным орудием в руках Ивана Карамазова, выполнителем его злой воли, было высказано ещё в прошлом веке Орестом Миллером: «Несчастный Смердяков, слепо подчинившись идеалу Ивана… совершил преступление»{315}. С тех пор с разной степенью сложности и доказательности, а чаще просто мимоходом (ведь вопрос-то вроде бы второстепенный, а нас интересуют в романе столкновения Добра и Зла, Великий инквизитор и т. п.) утверждается, что «Смердяков — это, так сказать только практик уголовщины. За ним у Достоевского возвышается фигура Ивана Карамазова, идеи и представления которого, как убеждён писатель, толкнули Смердякова на преступление, оправдывали и даже возвышали убийцу в его собственных глазах»{316}. Тем самым, возлагая всю полноту ответственности на одного героя, мы целиком и полностью освобождаем от всякой ответственности другого героя. Но если так, то соответственно прямым и недвусмысленным убийцей оказывается Иван, а точнее даже, следуя логике этой мысли, он оказывается «носителем зла» в поэтическом мире романа. В глубоком и авторитетном исследовании В. Е. Ветловской эта позиция резюмируется в следующих словах: «Итак, Алёша (и читатель), слушая Ивана, слушает самого дьявола»{317}. Но в таком случае природа Ивана выглядит вполне однозначной, а все его терзания, самообвинения, двойственность и многозначность слов и поступков как бы признаются несущественными, то есть тем самым упрощается структура этого образа, упрощается и понимание вины и ответственности, отстаиваемое писателем, а также приходит в весьма заметный внутренний разлад весь образный строй романа. Явная повторяемость и как бы генетическая связь образов Смердякова и чёрта («лакейство») оказывается случайной и художественно необязательной, а беседы Ивана со Смердяковым, а далее с чёртом, искушающим героя, становятся бессмыслицей, если герой сам является безусловной силой зла («дьяволом»).