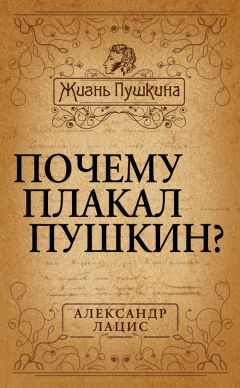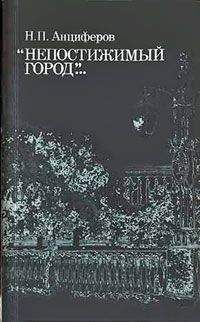Илья Эренбург - Перечитывая Чехова
Чехов понимал, что общество, построенное на произволе и несправедливости, нельзя спасти мелкими реформами или благотворительностью. Художник, от имени которого ведется рассказ в «Доме с мезонином», возражает либеральной активистке Лиде: «По–моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение… Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх».
В Чехове жила неприязнь к духовной сытости, к паразитарному существованию, к жадности и бесчеловечности того мира, который он называл «буржуазным». Он писал о романе Сенкевича: «Цель романа: убаюкать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым». Говоря об одном русском беллетристе, Чехов пояснял: «Он фальшив («хорошие книжки»), потому что буржуазные писатели не могут быть не фальшивы. Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели».
В глазах Чехова совесть была высшим ар-, битром; легко поэтому понять страстный интерес, проявленный им к «делу Дрейфуса». В 1894 году во Франции был осужден за шпионаж офицер Альфред Дрейфус. Вскоре началось движение, разделившее Францию: передовые круги утверждали, что Дрейфус невиновен и осужден военными судьями только потому, что он еврей. В защиту Дрейфуса выступил Эмиль Золя. М. Ковалевский рассказывал, что в зиму 1897/98 года, находясь в Ницце, Чехов с утра поспешно прочитывал все газеты: что пишут о деле Дрейфуса? Антона Павловича связывала давняя дружба с Сувориным, и вот из–за дела Дрейфуса дружба оборвалась. Чехов пытался переубедить Суворина: «Замечено было, что во время экзекуции Дрейфус вел себя как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, присутствовавшие же на экзекуции, например, журналисты, кричали ему: «Замолчи, Иуда!», то есть вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции неудовлетворенные, со смущенной совестью… Как нарочно, обнаружился целый ряд грубых судебных ошибок… Такие глубоко неуважаемые люди, как Дрюмон, высоко подняли голову; заварилась мало–помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что–нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм…» Да, Золя не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги». Вскоре после этого письма Антон Павлович сообщил брату: «В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем…» 18 сентября 1902 года Антон Павлович написал своей жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто некстати. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».
В 1900 году при Академии наук образовали «раздел изящной словесности»; среди пяти избранных академиков был Чехов. Два года спустя членом академии был избран Горький. Правительство разгневалось, выборы были признаны недействительными: «Горький находится под следствием по политическому обвинению». Тогда Чехов, как и Короленко, заявил, что они «складывают с себя звание почетного академика».
Конечно, шли годы, менялась Россия, менялись и многие оценки Чехова. В 1888 году в письме к Плещееву он сопоставил ложь мракобесов и ложь либералов, ложь в среде молодежи и ложь кутузок. В 1899 году он был весь на стороне бунтовавших студентов и возмущался защитниками полицейских расправ; мне не думается, однако, что это уточнение оценок обозначило перелом в творчестве Чехова: ведь в рассказах, написанных в 1888 году, да и до того, Антон Павлович неизменно был на стороне правды, на стороне человека и народа. Ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не обладал четкими политическими идеями, и я менее всего склонен посмертно вооружать его марксистским мировоззрением. Но столь же нелепо видеть в нем консерватора, находившегося под влиянием Суворина и постепенно превратившегося в либерала, как то делали и делают некоторые исследователи.
Относительно недавно — в 1934 году — писатель, любивший Чехова и много поработавший над его наследием, Ю. Соболев писал: «Его переход в либеральный лагерь, конечно, выражал новый этап в развитии его политического роста… Он избавился наконец от своей «нейтральности»… Усердный читатель зарубежного «Освобождения», издававшегося ренегатом от социализма Струве, Чехов не шел в своих идеалах дальше конституции… Чехов выступает как выразитель идеологии радикальной буржуазии». Если это относится к общественной деятельности Антона Павловича, то это неверно: он не выступал ни как представитель радикальной буржуазии, ни как представитель крестьянства или интеллигенции— он вообще не выступал (вряд ли можно рассматривать как политические выступления письмо в Академию наук или беседы с друзьями). Если же говорить о произведениях Чехова, то в них подымаются вопросы, которые и не снились представителям самой наирадикальнейшей буржуазии.
В 1888 году поэт Плещеев писал Чехову: «Но сколько мне случалось слышать от разных лиц, то вас обвиняют в том, что в ваших произведениях не видно ваших симпатий и антипатий… Иные, впрочем, приписывают это желанию быть объективным, намеренной сдержанности, другие же индифферентизму, безучастию». Чехов отвечал: «Вы как–то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий. Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» Антон Павлович говорил о своем рассказе «Именины». Плещеев, однако, не нашел в присланном рассказе «направления». В двух других письмах Чехов пытается ответить на упреки в равнодушии: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист… Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консистории, так и Нотович с Градовским… Фирму и ярлык я считаю предрассудком…» «Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой». Либерал Нотович издавал газету «Новости»; конечно, политически она была пристойнее «Нового времени»; но Чехов говорил Плещееву совсем о другом — о своем отвращении ко лжи, к тем либеральным буржуа, которые пьют шампанское, празднуя «освобождение» крестьян от крепостного права. Есть ли здесь «безучастие» писателя к своим героям, к судьбе народа?
Можно понять несправедливые упреки бывшего петрашевца Плещеева или его друзей: они были продиктованы гражданской страстью. Но толкование Чехова как писателя нейтрального, даже равнодушного, существует и поныне. Передо мной книга Софи Лаффит, озаглавленная «Чехов, рассказанный самим собой»; она издана в Париже в 1955 году. В книге действительно много цитат из писем и произведений Чехова; но Софи Лаффит тоже высказывается; вот некоторые ее суждения: «Любил ли он человека? Кажется, что все другие, незнакомые были для него прежде всего объектами эстетического восприятия. Если люди красивы или входят в красивый пейзаж, он к ним расположен. В противном случае его поспешное суждение остро и, в общем, неблагоприятно… Всюду морды, рыла, хари, рожи… Тот же холод в отношениях Чехова к знакомым. Если он всегда окружен роем поклонников, если в его доме неизменно гости, если столько людей называют себя его приятелем, то по существу > него нет друзей… Тот же холод, та же усталость и в его отношении к больным. Величайшая скука, граничащая с отвращением… Все, в том числе он сам, сходятся на признании этого холода, этой затаенной враждебности к людям… Все в нем показывает страстную волю к доброте, но также равнодушие и не меньшее презрение к людям, к жалким погремушкам, которые их забавляют… В общем, Чехов, может быть, ненавидел женщин еще больше, чем мужчин. В галерее созданных им женских образов мы находим хищниц, гадюк и несколько нежных, но безвольных жертв… Бесконечно свободный художник, Чехов решительно отверг иго идеологии, которое значительно понизило цен–ность произведений Короленко или Салтыкова-Щедрина… Он отличается от своих предшественников проницательностью, особенно беспристрастием…» Я остановился на суждениях Софи Лаффит потому, что они показывают, какую путаницу вносят некоторые сторонники «духовного нейтралитета» в вопрос о взаимоотношении между общественным долгом писателя и природой искусства.