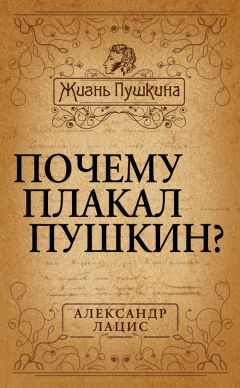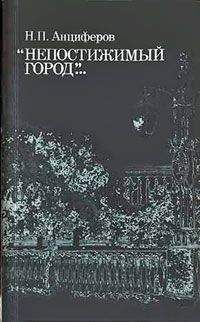Илья Эренбург - Перечитывая Чехова
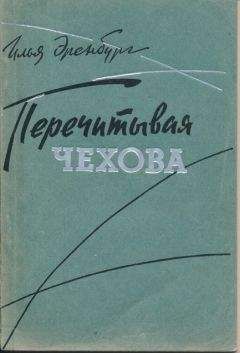
Обзор книги Илья Эренбург - Перечитывая Чехова
Илья Григорьевич Эренбург
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА
В Ясной Поляне у могилы Толстого невольно задумываешься над гордостью и смирением. Лев Николаевич завещал не ставить на его могиле ни памятника, ни плиты с именем. Это было продиктовано верой в необходимость духовного смирения, которую он исповедовал. Место для могилы он выбрал, однако, патетичное: Толстой и природа.
Чехов был скромен не потому, что философски пришел к идее смирения: скромность была в нем заложена; он никогда не чувствовал себя ни пророком, ни учителем, ни даже крупным мастером; ему было незнакомо ощущение собственного превосходства. Его некоторая сдержанность объяснялась скорее мягкостью, душевной стыдливостью, нежели желанием отдалить от себя окружающих. Долго, упорно боролся он с тем, что считал своими недостатками или пороками, но с гордостью ему не пришлось бороться — он ее не знавал.
Славы он сторонился. В 1889 году (Антону Павловичу тогда было двадцать девять лет), побывав в Петербурге, он неожиданно для себя столкнулся с той суетой, которая окружает любую знаменитость — приезжего актера, адвоката, произнесшего хлесткую речь, или чемпиона спорта; Чехов отнесся к успеху с усмешкой. «Купался там в славе и нюхал фимиамы», — писал он. Слава не ослепила его, напротив — она усилила его сомнения в ценности своей работы.
Он был к себе не только взыскателен, но несправедливо жесток. После «Степи», «Именин» он писал посредственному беллетристу Тихонову: «…мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом артель». Можно подумать, что такая оценка была неискренней, что Чехов попросту хотел приободрить Тихонова. Однако Антон Павлович повторял подобные суждения перед самыми различными собеседниками. В письме к Чайковскому — год спустя — он говорит, что первое место среди современников принадлежит Толстому, а себе отводит девяносто восьмое. В 1886 году, шутливо распределяя чины литераторам, Чехов высоко ставит авторов, имена которых теперь известны разве что сотне специалистов: Аверкиева, Муравлина, Василевского. В декабре 1889 года Чехов пишет Суворину: «Когда я на днях прочел «Семейную трагедию» Бежецкого, то этот рассказ вызвал во мне что–то вроде чувства сострадания к автору; точно такое же чувство испытываю я, когда вижу свои книжки».
«Я не уважаю того, что пишу», — говорил он; называл свои рассказы или повести «пустяками»; добавлял: «Меня будут читать лет семь, ну, семь с половиной, а потом забудут». Со времени, когда начали появляться в печати его рассказы, прошло не семь лет, а семьдесят семь, и любовь читателей к нему не ослабевает.
Чехова много читали при его жизни, это относится, разумеется, к тому узкому слою, людей, который в дореволюционное время знал художественную литературу. Революция удесятерила число читателей Чехова; по данным статистики, в Советском Союзе издано около пятидесяти миллионов экземпляров его произведений. Дело не только в цифрах; я часто слышал признания: «Чехов помог мне многое понять и в себе и в жизни». Я живу неподалеку от Истры, где молодой Чехов лечил больных в Чикинской земской больнице и писал первые рассказы. Дом Антона Павловича фашисты сожгли в декабре 1941 года. Пять лет тому назад рядом с развалинами дома поставили памятник, в отличие от многих скромный, милый в своей чеховской скромности. Я был на открытии этого памятника; собрались жители Истры, колхозники, пионеры, дачники, и в каждом слове, в глазах каждого была та подлинная любовь читателя к писателю, которую не спутаешь ни с благоговением перед реликвиями прошлого, ни с холодным признанием длинного списка отечественных и мировых знаменитостей.
Видел я, как плакали отнюдь не плаксивые и достаточно энергичные советские женщины, разделяя печали «Трех сестер» (эту пьесу Антон Павлович называл «веселой комедией»), плакали инженеры и врачи, седые домашние хозяйки и молоденькие смешливые студентки.
Читая многие книги иностранных авторов, понимаешь, сколь глубоко влияние Чехова; говоря это, я думаю и об английской литературе начала нашего века, и о произведениях Према Чанда, и о французах, и о Лу Сине (Го Мо–жо писал о влиянии Чехова на китайских писателей). Мне трудно представить себе новеллы Хемингуэя, Пиранделло, Моравиа без Чехова.
Пьесы Чехова никак не соответствуют условному понятию театрального зрелища, «постановочными» их не назовешь, но вот уже четверть века, как их ставят во всех театрах мира — в Москве и в Лондоне, в Токио и в Париже, в Стокгольме и в Нью–Йорке. Где мне только не говорили о «Чайке» — она и впрямь пересекла моря.
Скромный Антон Павлович, уверявший, что он работает над «пустяками», потряс мир. Я слышал от рядовых французов, от английских студентов, от тех американцев, которых пугает пошлость жизни, знакомые нам признания: «Чехов помог… Чехов раскрыл глаза... Чехов согрел сердце…»
В чем же разгадка жизненности Чехова, его глубокой современности, близости людям, живущим в одну и ту же эпоху, но разделенным и в мыслях и в чувствованиях разными верованиями, разной моралью, разным бытом.
Я думаю сейчас не только о саратовской комсомолке, которая на память повторяла длинные цитаты из рассказов Чехова, или о враче в Бостоне, который мне объяснял, как, прочитав «Скучную историю», он понял, что такое второе рождение; я думаю и о своей жизни. Мне было тринадцать лет, когда Чехов умер; я хорошо помню, как мне об этом сказала мать и как меня потрясло, что нет больше человека, написавшего «Каштанку». Потом длинные десятилетия я жил то «Ариадной», то «Рассказом неизвестного человека», то «Домом с мезонином», то «Скучной историей». Я переступил из одного мира в другой; все изменилось, изменился и я, изменился настолько, что часто думаю о своем прошлом как о странной истории, неумело кем–то описанной, давно прочитанной и полузабытой. А вот любовь к Чехову я пронес через всю мою жизнь…
Я заглядываю в статьи, в книги, написанные полвека назад. Боборыкин называл Чехова "поэтом безвременья". Критики, буь то Львов–Рогачевский или Неведомский, Фриче или Оболенский, повторяли одни и те же формулы: «лучший выразитель восьмидесятых годов», «летописец хмурых лет», «писатель заката», «поэт сумерек».
Я раскрываю том «Энциклопедического словаря». Он выпущен в свет недавно, всего четыре года назад. Чехов в нем назван «великим русским писателем»; следует характеристика, которая сводится к тем самым формулам, которые я видел в давних статьях; только яснее и точнее определен характер общества, в котором жил Чехов: «В произведениях, написанных в конце 80–х и в 90–х годах, Чехов рисует идейные искания русской интеллигенции, разоблачает мещанскую психологию, либерально–народнические иллюзии, толстовство, буржуазный либерализм… Чехов достиг больших социальных обобщений, создав типические образы, воплощавшие самодержавнополицейский режим… Он реалистически показал рост буржуазных отношений в городе и деревне, обнищание крестьянства, разложение дворянско–помещичьего строя».
Я читаю в том же словаре о Глебе Успенском: «Писатель с большим реалистическим мастерством изобразил нужду и угнетение городской бедноты, влияние буржуазных отношений на жизнь русской провинции. В произведениях 70–80–х годов… Успенский, вопреки собственным народническим иллюзиям, правдиво показал развитие капиталистических отношений в деревне…» Я продолжаю — и смотрю о Салтыкове–Щедрине: «… раскрывает реакционную сущность русского и международного либерализма… Рисует рост капитализма, его проникновение в деревню…»
Все это, разумеется, верно. Верно и сказанное о Чехове; но приведенная характеристика никак не может объяснить любви современных читателей к его произведениям. Действительно ли их увлекает только история давно исчезнувшего общества? Правда ли, что сорок лет спустя после уничтожения капитализма в России их особенно интересует «рост буржуазных отношений в городе и деревне»? Если образы, созданные Чеховым, «типические» и «воплощавшие самодержавно–полицейский режим», почему они должны волновать читателей наших дней, знающих только понаслышке и о царе и об исправнике? Конец восьмидесятых и девяностые годы, давно окрещенные «безвременьем», являются тусклыми страницами русской истории, и летопись этих лет, растянутая на двенадцать томов, вряд ли способна зажечь сердца читателей, которые живут в достаточно яркое и громкое время. Могут ли современников, начавших освоение космоса, строящих новое, невиданное в истории общество, помнящих, что такое Освенцим и Хиросима, гордых и настороженных, вдохновить давние споры между либералом Николаем Николаевичем, который отстаивал Высшие женские курсы, и консерватором Петром Дмитричем, противником подобных новшеств?