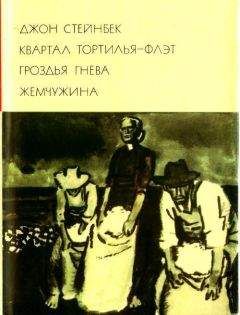А. Марченко - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
Между тем версии Гуковского было суждено некоторое будущее. Добравшийся до данной страницы читатель предлагаемых заметок уже, конечно, не удивится, узнав, что на самом деле у этой версии не должно было быть никакого будущего. (Так все‑таки суждено или нет?) Не должно было быть и самой книги "Пушкин и проблемы реалистического стиля", оконченной Гуковским незадолго до ареста (1949) и гибели 2 апреля 1950 года. Но следует цепь счастливых случайностей и общенародных событий — и в 1957 году рукопись становится книгой.
Через год выходит монография Б. С. Мейлаха "Пушкин и его эпоха", где (вероятно, независимо от Гуковского) представлен — в гораздо более кратком и схематизированном изложении — приблизительно тот же взгляд на повесть: "Отрицательно оценив в "Пиковой даме" образы и графини и Германна, Пушкин осудил в их лице как старую феодальную Россию, так и наступивший "железный век"" (с. 637). Однако в литературоведении 1960—1970–х годов это воззрение, судя по ссылкам, получает распространение все же благодаря "случайной" книге Гуковского. Ее восприимчивым читателям, возможно, казалось, что, обращаясь к идее убиенного ученого, они тайно сводят счеты со временем его убийц, но какой‑то загадочный механизм, управляющий читательским сознанием, не позволял им заметить, что сама идея доминирующей в "Пиковой даме" антибуржуазности — несомненный продукт этого времени [174].
После книги Гуковского в истории пушкинской повести произошло лишь одно по–настоящему значительное событие. Мы имеем в виду появление в 1975 году блестящего исследования Ю. М. Лотмана "Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века" с тончайшим — и потому практически не поддающимся пересказу — анализом философского содержания занимающего нас произведения.
Нам еще могут напомнить о продолжительной и напряженной литературоведческой дискуссии: фантастическая "Пиковая дама" повесть или реалистическая? Прозвучавшие ответы: фантастическая, потому что в ней есть необъяснимое чудесное; реалистическая, потому что все чудесное в ней правдоподобно объяснено или может быть объяснено (как, впрочем, и сделанные по ходу уточнения: фантастика—это совсем не то, что вы думаете; реалистическая мотивировка вовсе не мешает повести быть фантастической), показывают, что проблема фантастики в данном случае неуклонно становится вопросом веры, а потому не очень разумно делать ее предметом дискуссии. Заметим, кстати, что по резонному суждению, высказанному А. И. Кирпичниковым в то время, когда еще и "Пиковой дамы" — то никакой "не было", фантастическое и реальное в ней "не стоят рядом, как у немцев, а взаимно проникают друг друга и являются единым неделимым" [175]. С другой стороны, здесь трудно не узнать свойственного в высокой мере всем нашим общественным наукам спора о терминах. В данном случае он присутствием Пушкина слегка тематически облагорожен (много раз, впрочем, этого присутствия бывало недостаточно) — временно оставлены традиционные вопросы–разлучники: романтическое произведение с явными ростками реализма или реалистическое с рудиментами романтизма? либеральное сознание на буржуазной основе или мелкобуржуазное с либеральным уклоном? — но суть та же, до боли знакомая: как назовем, как запишем, на какую полочку положим? Поэтому нельзя не огорчиться, увидев среди активных участников этой полемики О. С. Муравьеву — автора нескольких прекрасных работ о "Пиковой даме" (чрезвычайно нам близких своей установкой на многозначность и окончательную непознаваемость повести), лучшего, вероятно, на сегодняшний день знатока истории ее изучения. Мы совершенно не возражаем, когда о терминах берутся поспорить ученые, ни к чему более не годные: им ведь тоже надо чем‑нибудь заниматься; высокие результаты филологических лидеров невозможны— да простится нам спортивно–физкультурная терминология! — без массовости движения. Однако участие в этих малоосмысленных спорах вполне дееспособного исследователя, воля ваша, действует удручающе.
Возвращаясь к недавнему периоду жизни "Пиковой дамы", скажем, что работы этого времени (за уже оговоренным вычетом статьи Лотмана), претендующие на самостоятельную и целостную ее интерпретацию, к сожалению, не могут похвастаться особой новизной. Их различает, пожалуй, лишь степень композиционной изысканности, с которой многократно приводившиеся факты сервируются для извлечения одного из многократно звучавших выводов. В таком же или почти таком положении находится и изучение других произведений Пушкина. И это положение вполне закономерно, поскольку пушкиноведение с некоторых пор развивается главным образом само из себя. Проиллюстрируем наше утверждение красноречивым примером из специального выпуска "Альманаха библиофила", вышедшего в 1987 году под названием "Венок Пушкину (1837— 1987)".
Восемь постоянно пишущих о Пушкине авторов отвечали на вопросы анкеты, среди которых был такой: "Расскажите, пожалуйста, о "пушкинской части" Вашей библиотеки…" Но лишь один ответ не был ограничен списком книг, в заглавии которых есть слово "Пушкин". Мы говорим о Ларисе Керцелли, назвавшей журналы, альманахи, грамматики; воспоминания, адрес-календари, топографические описания и прочие — во всем их разнообразии — издания первой половины прошлого века, а под конец справедливо заметившей: "…Возможности для желающего найти помощь в старой книге без всякого преувеличения неисчерпаемы и порою, как это ни странно, все‑таки еще недооцениваемы".
Не сомневаемся: многие из отвечавших не разпользовались перечисленными Керцелли источниками. Уверены: некоторые из пользовавшихся не очень задумывались над заданным вопросом; а другие, поразмыслив, решили, что вопрошающие хотят услышать именно это, не иное. И все же соотношение семь к одному не может быть совершенно случайным и непременно в какой‑то степени да отражает распространенный, хотя, возможно, и не до конца осознанный, взгляд: "пушкинская часть" библиотеки это написанное Пушкиным и пушкинистами, не далее! Именно благодаря этому взгляду в последние годы рождение оригинальных концепций весьма осложнено хроническим недостатком свежих фактов, а все крохи сколько‑нибудь нового отыскиваются лишь в маргинальном литературоведении. Перефразировав эпиграф ко второй главе "Пиковой дамы", создавшееся положение можно описать в следующем разговоре:
— Вы, кажется, решительно предпочитаете мелкие заметки и уточнения?
— Что делать? Они свежее.
* * *Небольшие, не претендующие на новое прочтение "Пиковой дамы", этюды, как нам кажется, отражают крупные проблемы нашей (и не только нашей) пушкинистики ничуть не хуже, чем преследующие глобальные цели труды. Попробуеы перечислить некоторые из этих проблем (разумеется, лишь ничтожно малую толику), перелистывая одну старинную газетную публикацию.
Пока не привлекавшаяся к беседам о пушкинской повести статья под названием "Картежники" начала печататься в "Литературных прибавлениях к "Русскому инвалиду"" 16 сентября 1833 года (№ 74). Автор — А. Кораблинский (псевдоним издателя газеты Александра Федоровича Воейкова).
"Но из толпы протеснился Бонапарт игроков, Фадей Львович Смирненький. Он был отставным актуариусом на чреде гражданской иерархии и генералиссимусом армии понктеров. Взор, быстрота, натиск, сии три качества достались ему в удел — и стотысячные банки трещали, когда он штурмовал их. <…>
Смирненький выдернул карту, подписал под нею 1250 и, сказав: Va (идет. — фр.), пустил ее. Это была шестерка; она выиграла с оника".
Началась следующая талия.
"Неугомонный Смирненький загнул пароли с транспортом. По третьему разу шестерка легла налево и принесла своему protege 5000 рублей".
В следующей талии события повторились:
"Наполеон–Смирненький, отписав 750 рублей, пустил брандер (техническое выражение) от 4250–ти на 8500 рублей: шестерка опять бух налево!"
Затем описывается еще несколько весьма удачных выходов обогащающей Смирненького шестерки, а на сцене тем временем появляется господин, самым банальным образом сочетающий в одном лице богача и скрягу. Фортуна к нему совершенно равнодушна, что вызывает следующее замечание Воейкова:
"…по 12 рублей с полтиной долго ли заиграться, ставя по пяти карт вдруг, вдвое на второго туза или даму, вчетверо на третьего, в осьмеро на четвертого. Глупость, безрасчетливость и алчность жестоко наказываются в азартных играх":
Пожалуй, остановимся; приведенных цитат уже вполне достаточно, чтобы немного по их поводу пофантазировать. Что из них может извлечь исследователь "Пиковой дамы"? На наш взгляд, две вещи. Во–первых, уточнение смысла картежного термина "отписывать", фигурирующего, как мы помним, в эпиграфе к первой главе повести ("И выигрывали И отписывали мелом…"). В "Словаре языка Пушкина" дается довольно туманное объяснение — "списывать проигрыш". Между тем из воейковского текста видно, что оно означает исключение выигравшим из дальнейшей игры части своего выигрыша. Во–вторых, желательность подключения данного произведения к ряду сочинений, составляющих литературный фон "Пиковой дамы" и именно в этом своем качестве обстоятельно рассмотренных Виноградовым (говорить о влияниях и цитатах, разумеется, можно будет, лишь когда весь этот ряд будет выявлен и изучен).