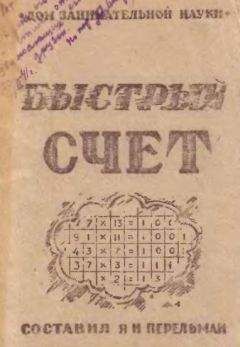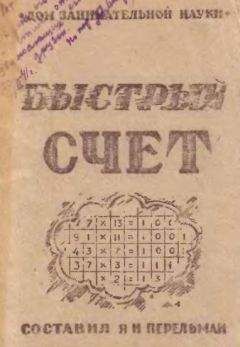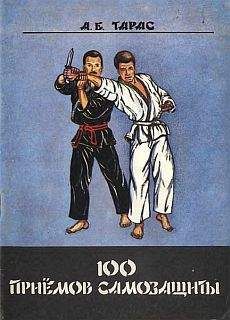Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого росту, плотного сложения, курчав и темно-рус, почти черен, носит бакенбарды… нос немного приплюснут, и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта, тот не может не содрогнуться при взгляде на его наровчатовское повторение.
Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, не слишком замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее со рвением и неослабным постоянством…
Пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням, в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии и различных магазинов, появляется в центре города. Он проносится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклонясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича! Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич Пушкин — в шинели николаевской моды, с крылатою накидкой до пояса, в твердой широкой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатке, развеваемой иногда ветром и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться — прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, а может быть, и тысяч уст несется слово:
— Пушкин, Пушкин, Пушкин!»
Появление Пушкина раз в неделю, вечером в воскресенье, это как долгожданное явление мессии. Оно напоминает о чем-то святом и высоком, об иных измерениях и мирах, существующих за пределами опаскудевшей, убогой и сонной реальности Наровчата. И хотя все знают, что Пушкин не настоящий и вдогонку развивающейся крылатке, помимо зачарованных вздохов и восторгов, летят дерзкие выкрики и даже глумливые насмешки, почти на всех, так или иначе, его очередное появление действует как порыв, освежающий души. Каждый в эту ожидаемую новую встречу с этим выходцем из иных миров вкладывает что-то свое, вдувает в расплывающийся высокий духовный образ часть собственной души. Так что видение местного Пушкина создает не один мелкий служащий железнодорожной товарной станции, его лепит и выстраивает коллективное сознание всего захолустного городка.
Но тем более сознает значение своей миссии сам А.С. Пушкин. «От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступил и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен… Но несмотря на упадок городской жизни, как бы не замечая его, Афанасий Сергеевич Пушкин, все так же чудесно похожий на славного своего двойника продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки по главной улице». В достигшем крайностей духовного падения послереволюционном Наровчате жители по-своему гордятся Афанасием Сергеевичем, чтят и любят его, хотя не обходится и без завистничества и травли, приводящей в конце концов к трагической развязке.
Ведь вот даже бывший священник, а ныне палач святых ликов Симфориан в застолье со своим выпивошным коллегой, земельным комиссаром Рокотовым, сокрушается искренне:
«Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:
— Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла! Может, один человек, один-единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили!
— О ком говоришь? — спросил Рокотов.
— Не о тебе, ты тоже — рыло!
— Согласен, — сказал Рокотов.
— Единственный человек в Наровчате — Пушкин, — прочувственно объявил Симфориан». И добавил: «Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!»
В гонениях на единственное здешнее светозарное явление сплачиваются грубая начальственная сила и местная бездарь. «Предписываю вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т.е. в одежде писателя Пушкина, и вообще… прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры», — строгим официальным циркуляром ставит нравственного бунтаря на свое место начальник гормилиции. А олицетворение здешнего духовного примитива завистливая бездарь «народный поэт» Антип Грустный подкарауливает невольного соперника и, схватив за грудки, грубо расправляется с ним, выговаривая ему в лицо все, что о нем думает.
В результате Афанасий Сергеевич таинственно исчез. А через несколько дней местная река выбросила на берег возле загородного монастыря труп неизвестного утопленника. По некоторым признакам, и прежде всего по знаменитой крылатке, в нем признали местного Пушкина.
«Наровчатовская хроника» не отличается такой глубиной и изобразительной силой, как повесть «Трансвааль». Она более литературна, временами в тексте проскальзывают интонации Гоголя и Достоевского. Но обе повести объединяет стремление к смелому и независимому анализу народной жизни.
Сказал бы даже больше. Шедевр — это вещь, в которой ничего нельзя изменить и к которой нельзя написать продолжения.
Повесть «Трансвааль» как начинается, так и кончается ничем. Сваакер входит и выходит из нее одинаково — загадочным и процветающим. Меняются лишь способы и картинки его приспособительных побед и превращений.
Повесть пережила разные эпохи, многократно переиздавалась. Выдержала и испытания посторонних давлений и собственных авторских поползновений и искушений. А такие тоже были. Автор неоднократно порывался написать продолжение. Ясно было и название, в фантазии прокручивались сюжетные варианты — «Конец Трансвааля». Прозаик даже печатно оповещал об этом читателей в 1930, 1936 и в 1940 годах. Отзывы, отклики на знаменитую повесть лились рекой, притекали и документальные дополнения, и новые сведения о необычном герое, прежних и новых его похождениях.
В писательском архиве сохранились наброски и в отделанном виде первая глава повести «Конец Трансвааля». В 1982 году ее опубликовали наследники. Поддаваясь издательским давлениям, в июле 1940 года Федин изготовил даже торжественную вводку, предназначенную для издания двух повестей вместе. Она звучала как заклинание самого себя и гласила:
«ЭТА КНИГА, СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ПОВЕСТЕЙ
Первая была написана в 1925–26 годах, вторая в 1940–41-м. Каждая из них может быть прочитана отдельно, но вторая является продолжением первой и завершает ее.
Книга посвящается писателю, путешественнику, охотнику
Ивану Сергеевичу СОКОЛОВУ-МИКИТОВУ,
дружбе с которым я обязан как человек и писатель.
Дача. VII–1940».
К счастью, Федин намерения своего не исполнил. Да и о чем бы он мог там писать?
Есть запись Федина от ноября 1933 года, сохранившаяся в архиве: «А конец? — Не попадет ли Сваакер на “перековку“ в Беломорстрой?.. Не перековывается ли он?..
Во всяком случае, в основном остается тот путь, который я рассказывал Горькому: Сваакер самоарестовывается, затем действительно попадает в тюрьму; тюрьма во власти его гения; радиофикация и “спецчество” по радио; ссылка; оленеводство под Кемью? — “кулаческие” штучки; и потом “перековка”… После нее Сваакер выйдет жуликом двойным…»
Горький был энтузиастом строительства Беломорско-Балтийского канала, соединившего Волгу с северным морским бассейном страны. Канал создавался силами заключенных. Наряду с уголовниками, пресловутую массовую «перековку» проходили там «кулаки» и прочие так называемые «эксплуататорские элементы», вплоть до проституток. Условия содержания и труда заключенных публично всячески идеализировались, хотя земля там обильно удобрена многими жертвами этой якобы героической стройки. Ночами вместо выбывших и умерших прибывали новые товарные вагоны с будущими строителями, многих их которых ждала та же судьба.
Разговор с Горьким о продолжении «Трансвааля», который упоминается в архивном наброске Федина, происходил в ноябре 1933 года. Всего за три месяца до этого в пропагандистских целях состоялся известный парадный выезд на стройку Беломорско-Балтийского канала так называемого большого литературного десанта из 120 советских писателей. Руководил поездкой лично нарком НКВД Генрих Ягода, нижегородский земляк Горького, продолжавший поддерживать с ним близкие личные отношения. 66 участников поездки написали затем по своим впечатлениям статьи и очерки для коллективного сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Общую редактуру книги осуществлял Горький, поместивший в сборнике две собственных статьи.
Так что оба собеседника в принципе никак не были противниками такого рода трудовой и духовной перековки, которой в реальности подвергся Юлиус Саарек — жизненный прототип героя повести. Благодаря своим незаурядным способностям Саарек стал одним из первых ударников на строительстве Беломорско-Балтийского канала, был освобожден, а затем уже с неизбежностью пустился в дальнейшие похождения.