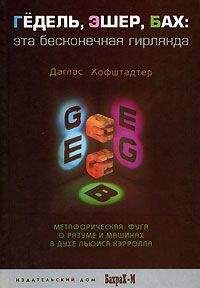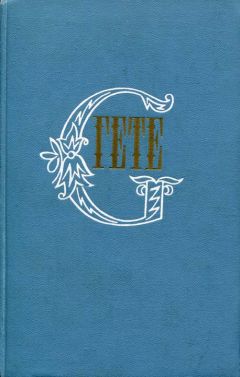Энн Ламотт - Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом
Когда мысленно разрешаешь себе писать, начинаешь думать как писатель — воспринимать мир как сырье для творчества. Бывает, сидишь или гуляешь где-нибудь, а все мысли — в работе, перед глазами стоит сценка или набросок персонажа. А иногда впадаешь в уныние, и дело никак не движется, и впору идти на кухню и хлестать теплый джин прямо из кошачьей миски. И вдруг, откуда ни возьмись, возникает идея или картинка. Иногда она вплывает в сознание золотой рыбкой — яркая, прелестная, невесомая; и ты смотришь с восторгом, словно ребенок глазеет на прежде пустой аквариум. А в другой раз нужный образ выплывает из темного угла, как привидение, и ты отшатываешься в испуге. Эти нежданные наития бывают так богаты, что, кажется, их и не осмыслишь.
Но записывать все равно надо.
Хотя у меня есть знакомые писатели, которые не делают заметок. С их точки зрения, жизнь надо не конспектировать, как профессора на лекции, а просто внимательно слушать. Наверное, это зависит от склада ума и особенностей памяти. Если ваше сознание легко удерживает творческие находки (то есть у вас еще не развился склероз), то вы редкий счастливчик. Не удивляйтесь, если у вас появятся завистники и недоброжелатели. Один мой друг-писатель — пожалуй, скоро нашей дружбе конец — недавно сказал: если идея пришла и тут же ушла, значит, в ней не было ничего ценного.
Я сразу почувствовала себя восьмилетней девочкой, которая хотела сообщить что-то ужасно важное, но оно выпало через какую-то дырку в памяти. И тут снисходительный взрослый бросает свысока: «Ну, значит, тебе и сказать-то особо нечего».
Словом, каждый решает для себя. Возможно, у вас прекрасная память и вы способны три часа спустя воспроизвести все, что пришло в голову во время прогулки по холмам или в очереди к стоматологу.
А может, и нет. Если вам это удобно, если помогает — делайте заметки. Это же не списывание на экзамене и ничего плохого не говорит о ваших способностях. Если ваш мозг не может удержать большой объем информации — это всего лишь рассеянность. Возможно, в студенческие годы вы любили забить косячок (нет-нет, ничего противозаконного, только травка!) и память несколько пострадала.
А может, у вас родился ребенок; появляясь на свет, дети прихватывают с собой примерно пятую часть материнского мозга. Причина не так уж важна; главное — записывайте, не стесняйтесь.
Мою картотеку не назовешь упорядоченной или хорошо организованной. Язвительные, враждебно настроенные студенты часто спрашивают, что именно я делаю со всеми своими карточками. Единственное, что я могу ответить: они есть. Я на них пишу. Сам процесс записывания дает процентов пятьдесят вероятности, что мысль зацепится у меня в памяти. Когда я работаю над книгой или статьей, то добавляю карточки к собранному материалу — просто прикалываю их к тем страницам черновика, куда могли бы вписаться эти идеи.
Или раскладываю на столе рядом со стопкой набросков для главы или статьи, над которой бьюсь в этот момент. Когда работа встает, я теряю мысль и в голове у меня начинают гудеть тамтамы (верный сигнал, что вдохновение иссякло), я перебираю карточки. Ищу в них то, что могло бы стать очередным небольшим фрагментом и снова взбодрить меня, прибавить энтузиазма, заставить сцеплять друг с другом эти чертовы слова — в чем, собственно, и состоит ремесло писателя.
На столе у меня лежат карточки с увиденным, услышанным и подмеченным на прошлой неделе, но есть и записи двухлетней давности. Если хорошо покопаться, можно найти даже заметку, которую я сделала шесть или семь лет назад, когда шла вдоль соленого озера от Саусалито до Милл-Вэлли. Мимо меня то и дело проезжали велосипедисты, но я не обращала на них особого внимания. Вдруг мимо пронеслась какая-то женщина, и меня обдало лимонным запахом ее духов. Запах — прямо как у Пруста — перенес меня лет на двадцать пять назад. Я увидела себя на кухне в доме моей тети, в компании ее многочисленной детворы. Был жаркий летний день; тетя только что развелась с дядей и сильно переживала. Видимо, чтобы успокоить нервы и поднять самооценку, она устроила поход по магазинам. В итоге была куплена довольно дорогая и сложная штуковина для приготовления лимонада.
Вообще-то, чтобы сделать лимонад, нужны графин, маленькая соковыжималка для цитрусовых, кубики льда, вода, лимоны и сахар. Вот и все. Ах да, еще ложка с длинным черенком. Но моя тетя тосковала и, видимо, надеялась, что чудо-машина развлечет ее и напоит пустыню ее жизни холодным сладким освежающим лимонадом. Конструкция состояла из стеклянного кувшина, на который надевалась специальная крышка. В крышке помещались выжималка и емкость, куда стекал сок. Нужно было налить в кувшин воды, кинуть лед, насыпать сахар — а затем надеть на него крышку, зарядить в соковыжималку лимоны, выжать их, слить сок из емкости в кувшин и размешать все длинной ложкой. Лимонная кожура, семечки и прочие ошметки оставались в соковыжималке. Очень эффективная штука — и абсолютно бессмысленная, если вдуматься.
Итак, мы собрались на кухне — я, старшая (мне было лет восемь), и пятеро тетиных детей. Столпившись возле раковины, мы наблюдали, как тетя с гордым видом делает лимонад. Она налила в кувшин холодной воды, добавила кубики льда, щедро сыпанула сахару, водрузила сверху крышку, выжала с дюжину лимонов — и полезла в буфет за стаканами. «Эй! — хотелось крикнуть тем из нас, кто был постарше, — это же еще не все! Ты не слила сок в кувшин!» Но тетя достала пластмассовые стаканы, стеклянные стаканы и пару блестящих металлических стаканов и налила семь порций напитка. И вот мы, шестеро беспомощных иждивенцев, затаили дыхание и зажмурились от яростного желания, чтобы все было хорошо и тетя перестала горевать. Она подняла стакан, как будто говорила тост, и мы стали прихлебывать ледяную воду с сахаром. У тети руки были в лимонном соке — она ведь порезала и уложила в машинку несколько лимонов, — поэтому ей, видимо, чудился в напитке кислый вкус. Она ничего не заметила.
Мы растерянно посмотрели на нее и снова отхлебнули сладкой воды, но затем улыбнулись и тоже подняли стаканы — как в рекламе всякого питья. И попросили добавки.
Шагая вдоль соленого озера, я отчетливо вспомнила растрескавшийся линолеум в тетиной куше — серо-бежевый с темными пятнами. Возле раковины он был истерт до черноты; в одном месте проглядывало подгнившее дерево пола. Мои двоюродные братья и сестры толпились у этой раковины вокруг тети. Некоторые были еще совсем малы — наверное, они даже не удивились воде с сахаром, решили, что так и надо. Помню, какими родными и близкими они были мне в тот миг, как я чувствовала себя частью этого круга.
До сих пор щемит в груди, как вспомню тот истертый линолеум, и тетино горе, и то, как она гордилась своей лимонадной машинкой. Каждый человек утешается по-своему: тетя старалась приготовить нам самый вкусный лимонад на свете, мы — подбодрить ее. С каким энтузиазмом мы поднимали стаканы с сахарной водой — будто кружки на празднике пива! А ведь все это выпало у меня из памяти лет на двадцать пять.
Может, эта сценка мне и не пригодится. На карточке написано просто: «лимонадная штуковина». Но для меня это как фрагмент фильма, зарисовка о тяжелых временах в одной семье, о том, как люди их переживают, как из разочарования и любви вдруг рождается единение и на краткий миг жизнь становится если не прекрасной, то хотя бы терпимой.
Иногда бывает так: я веду машину, и вдруг у меня в уме выстраиваются слова, которые до того я тщетно искала все утро.
Вот, например, техническая проблема: как в романе показать, что проходит время? В кино это сделать легко: можно дать крупным планом календарь или стрелки часов. В тексте подобные приемы работают гораздо хуже. Очень радостно бывает читать книгу, где автор удачно играет с «говорящими» деталями: например, меняется время года, или дети идут в школу, или у кого-то отросла борода, или у собаки поседела шерсть. Но в своих текстах далеко не всегда находишь способ естественно и ненатужно показать ход времени. Сколько ни сиди за столом и ни сверли взглядом страницу, это не поможет. Можно отвлечься, поиграть с собакой, покрутить в руках счет за электричество, почувствовать, как что-то замаячило на периферии сознания, только ты его все никак не ухватишь…
Ты будто сидишь с больным, подключенным к дыхательному аппарату: он вроде без сознания, но иногда на секунду приходит в себя, даже моргает. Если караулить достаточно долго, нужный образ тоже придет и подмигнет. Тогда сразу же записывайте!
На одной моей карточке нацарапано: «Даже шесть лет спустя ее мучили воспоминания о сырых рыбных палочках». Когда-то мне казалось, что это замечательная переходная фраза. Правда, я так и не нашла, куда бы ее приспособить. Может, вам пригодится? Пользуйтесь, если что.
Многие карточки я в конце концов выбрасываю — либо потому, что уже использовала написанное на них, либо потому, что оно оказалось не таким уж интересным. На некоторых вообще полный бред: это я вскочила и нацарапала что-то среди ночи. Выглядят они так, будто гениальный студент-математик наелся ЛСД и решил порассуждать об истине или об апельсинах. На других карточках — чьи-то афоризмы, которые я люблю цитировать студентам; жаль только, что чаще всего я забываю написать, кто автор. Вот, например: «То, что кроется во тьме веков, и то, что сокрыто во тьме грядущего, ничтожно рядом с тем, что таится в человеческой душе»[60]. Скорее всего, это слова Ральфа Уолдо Эмерсона; однако с моим везением я вполне могу нарваться на критика, который скажет, что на самом деле их написала Жоржет Мосбахер[61]. (Интересно, а кто сказал, что «критик всегда приходит на поле битвы уже после сражения и добивает раненых»?) Остальные карточки просто живут со мной годами; вероятно, сыну придется куда-то их девать после моей смерти. Полоумные старые девы разводят десятки кошек; я развожу горы карточек. Они хотя бы не пахнут, не линяют и не писают на пол — так что Сэм еще дешево отделается. Большинство записей ему ни о чем не скажет; для меня за этой абракадаброй стоят целые эпохи, но Сэму останется только почесать в затылке и убрать их куда-нибудь.