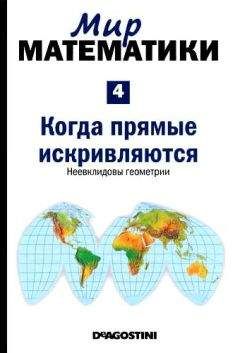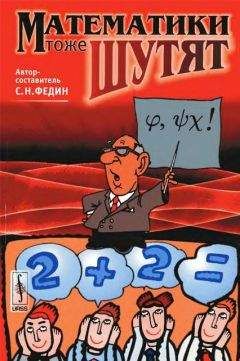Альберто Мангель - Гомер: «Илиада» и «Одиссея»
Видение Вергилия живо в памяти Данте, когда мастер пишет свою «Божественную комедию». Как и Улисс и Эней до него, Данте, ведомый Вергилием, проходит врата Ада и оказывается на берегу Ахерона, где стоят в ожидании толпы мёртвых.
Как листья сыплются в осенней мгле,
За строем строй, и ясень оголённый
Свои одежды видит на земле…[169]
По Гомеру, жизнь и смерть чередуются, накатывая, как прибойная волна, и отходя вновь; акцент у него делается на циклическую природу существования всего живого. По Вергилию, число мертвецов столь же велико, сколь число опавших осенних листьев — акцент делается на количестве. Наконец, Данте к наблюдениям за вечным движением жизни и идее бесчисленности живых и мёртвых добавляет собственные размышления об отдельно взятой судьбе, о том, что каждый лист должен отжить своё.
В романе Андре Мальро 1930 года «Королевская дорога» главный герой, умирая, произносит следующие слова: «Смерти… нет… Есть только… я… и я… умираю…»[170] Так же и Данте: он настаивает на том, что глагол «умирать» должен иметь лишь одну форму спряжения — первое лицо, единственное число. Там, где у Вергилия листья падают (cadunt), у Данте они отрываются и улетают прочь (si levan) — таким образом, Данте как бы наделяет листья и, по ассоциации, людские души, собственной волей к движению[171]. Данте словно утверждает: мы смертны и не можем уйти от смерти, но как мы расстанемся с жизнью — решать нам. Фактическая сторона смерти — нечто предопределённое; однако лицо смерти для каждого человека своё. (Во втором круге Ада души тех, кто грешил похотью, кружатся вихрем на завывающем ветру, но у каждой души есть своя история).
Прочтение Гомера через Вергилия и затем Данте нашло отражение у более поздних авторов. Так, Мильтон в своём «Потерянном Рае» использовал образ, предложенный Вергилием, чтобы изобразить легионы Сатаны на берегу Огненного моря:
…бойцам, валяющимся, как листва
Осенняя, устлавшая пластами
Лесные Валамброзские ручьи,
Текущие под сенью тёмных крон
Дубравы Этрурийской.[172]
Прошло двести лет после публикации «Потерянного Рая» — и Поль Верлен вернулся к аллегории Главка в своём стихотворении «Осенняя песнь»:
Рыдая, уйду
Себе на беду
С ветром из дому.
Паду в пустоту
Подобно листу
Сухому.[173]
Джеральд Мэнли Хопкинс, современник Верлена, обратился с этим образом к ребёнку, вопрошая:
Маргарет, иль ты печалишься,
Что облетает золочёный лес?
Иль будто что-то есть в листве
С судьбой людскою схоже…[174]
В знаменитом послании к наместнику Кангранде делла Скала Данте объяснил, что каждый образ из множества, изображённого им в «Божественной комедии», необходимо рассматривать в четырёх ипостасях: дословной, аллегорической, анагогической (духовной) и аналогической (сравнивая, проводя аналогии)[175]. В таком случае образ осенней листвы может рассматриваться так:
1) число усопших так же велико, как число опавших листьев;
2) всем живущим уготован жребий, для которого рождён человек;
3) мы должны смириться со смертью, так как она, как и жизнь, дарована нам Господом; однако мы также должны постараться уйти достойно;
4) истина — в словах Экклезиаста: «Род человеческий приходит и уходит; а земля пребывает вовеки»[176].
Дальнейшее развитие образа осуществил Перси Биши Шелли при описании развалин Помпей в 1820 году: он зеркально перевернул параллель, сравнив гонимую ветром опавшую листву с призраками не нашедших покоя душ:
Среди останков города
Я слышал шорохи сухой листвы,
Как будто души лёгкими шагами
Пересекали улицы, и живы и мертвы[177].
Как и несколько других предложенных Данте образов, сравнение усопших с листьями отражает приверженность автора доктринам томизма, учения Фомы Аквинского. Человек, согласно томистским воззрениям, может быть счастлив в загробной жизни лишь в том случае, если он встретил смерть правильно, достойно (пояснить, какой смысл он вкладывает в последнее понятие, Данте не мог или не хотел). В то же время, сравнивая опыт смерти с природными явлениями (деревья, ветер, земля), знакомыми нам по земной жизни, Данте как бы уравнивает смертное существование и существование высшее, непознанное[178] — а это очень важно. Происходящие в Аду, царстве смерти, события интересуют Данте лишь потому, что из них он может извлечь знание о жизни[179]. Описывая толпу мёртвых, он помнит, что эти бесплотные души, толпящиеся вокруг Улисса в «Одиссее», были облечены живой плотью в «Илиаде»…
Гомер создал описание. Вергилий сравнил. Данте подвёл итог.
Греки и римляне
Если государю недостаёт знания Гомера — значит, государь недостоин этого знания.
Франсуа Фенелон, «Разговоры мёртвых: Гомер»И всё же, почему в «Божественной комедии» Данте изобразил Гомера в Аду? Ад Данте — это не абсолют; открывшись внутреннему взору Данте, его Ад становится своего рода предостережением, которое он, автор, должен донести до смертных, не потерявших ещё возможности искупить свои прегрешения. В этом видении Данте помещает среди прочих языческих поэтов и Гомера — но не в Ад, а в преддверие Ада, сотворённое самим Данте.
По Данте, души попадают в Ад по своему собственному желанию, так как тот круг, в который они попадут, зависит лишь от совершённых ими грехов: чем более велики прегрешения смертного, тем глубже в Аду будет вечно страдать душа. Пространство Ада строго распределено по мерам наказаний. Через врата Ада мы попадаем в «переднюю», где обитают души людей, не сделавших свой нравственный выбор и провёдших жизнь «посередине», между добром и злом. Далее, на самом краю гигантской воронки, какую представляет собой Ад, начинается первый круг — Лимб, преддверие Ада, где обитают души некрещёных младенцев и тех, кто, как Авиценна или Аверроэс, отказались от принятия христианской веры, хотя и вели благочестивую жизнь[180]. Лимб — посмертное прибежище добродетельных язычников, в частности — Гомера, кто «…Именем своим / …гремят земле, и слава эта / Угодна Небу, благостному к ним»[181], но кто, однако, «Жил до христианского ученья, / Тот Бога чтил не так, как мы должны», (объясняя, Вергилий добавляет: «Таков и я»[182]). Гомера и подобных ему Данте размещает в обнесённом рвом и семью стенами замке посреди зелёной поляны. Ров — это аллегория земных благ или ораторского мастерства; стены — семи свободных искусств или интеллектуального превосходства и духовности. Таким образом, сохраняется в высшей степени почтительное отношение к Гомеру.
Мастера Ренессанса, разделяя позицию Данте, считали Гомера первым и лучшим из «добродетельных язычников». Около 1470 года герцог Федериго де Монтефельтро, которого называли «образованнейшим человеком при образованном дворе», разместил в своём кабинете во дворце Урбино двадцать восемь портретов известных исторических личностей. Птолемей здесь соседствовал с царём Соломоном, Вергилий — со святым Амвросием, Сенека — с Фомой Аквинским; в числе изображённых, конечно, был и Гомер. Несмотря на то, что герцог Федериго уважал философов более поэтов, его коллекция была бы неполной без этого портрета, как без знакомства с Гомером неполным было бы образование любого культурного человека[183].
Триста лет спустя, в 1508 году, Папа Юлий II дал заказ Рафаэлю на то, чтобы великий художник расписал комнаты Папы в Ватикане. Молодой (ему тогда было двадцать три года) Рафаэль избрал для комнаты с видом на сады Бельведера тему горы Олимп, обиталища богов древней Греции и воздал должное Гомеру. В период расцвета Рима холм Ватикана был посвящён богу Аполлону — именно его и изобразил Рафаэль. Бог-солнце сидит с лирой в руках (но не с классической греческой кифарой, а с lira da braccio, музыкальным инструментом, популярным у поэтов эпохи Возрождения — данная деталь символизирует то, что Аполлон незримо присутствует среди итальянцев), в окружении восемнадцати поэтов, как древних, так и современных Рафаэлю. Гомер, подобно тому, как группируются изображения святой троицы иконописцами, помещён Рафаэлем между величайшими его последователями; по левую руку от него Вергилий, по правую — Данте[184].
Благодаря беженцам из Греции, спасавшимся от турецкого вторжения, вскоре после Боккаччо и Петрарки возобновился интерес к греческой культуре. Завоевание Константинополя Мехметом II 29 мая 1453 года привело к тому, что некоторые весьма образованные эллинисты эмигрировали во Флоренцию, Рим, Падую и Венецию и основали в этих городах школы, где изучался греческий язык и велись работы по изданию греческих книг. Благодаря существованию таких заведений около 1504 года в Венеции печатник Альдус Манитий смог издать некоторые из наиболее изящных произведений классиков, среди которых были и две поэмы Гомера[185]. Знакомство с классиками стало одним из основных элементов в образовании человека, занимающего видное положение в обществе. Томмазо Парентучелли, ставший в 1447 году Папой Николаем V, известный своим изысканным вкусом, был, по слухам, «так же жаден до книг, как Борджиа — до женщин» и однажды заплатил десять тысяч золотых за перевод Гомера[186].