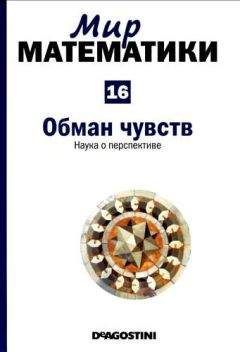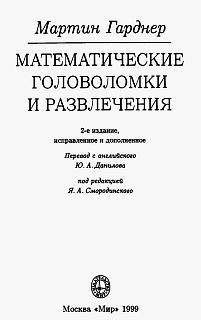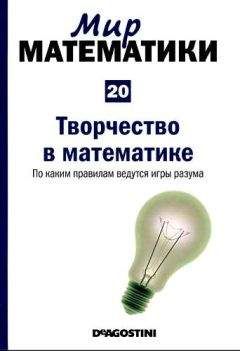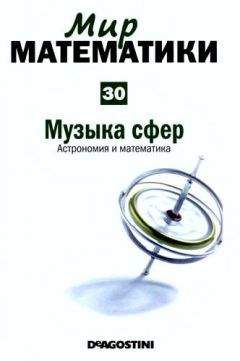Павел Стеллиферовский - "Чего изволите?" или Похождения литературного негодяя
Как это ни странно на первый взгляд, но и с антиподом Крутицкого либералом Городулиным наш герой сходится чрезвычайно скоро. Но здесь, сообразно обстоятельствам, перед публикой уже совсем другой человек: мысли передовые, чувства благородные, намерения честные. Даже сам тон разговора разительно переменился.
«Городулин (подавая Глумову руку). Вы служите?
Глумов (развязно). Служил, теперь не служу, да и не имею никакой охоты.
Городулин. Отчего?
Глумов. Уменья не дал Бог. Надо иметь очень много различных качеств, а у меня их нет.
Городулин. Мне кажется, нужно только ум и охоту работать.
Глумов. Положим, что у меня за этим дело не станет; но что толку с этими качествами?.. Чтобы выслужиться человеку без протекции, нужно иметь совсем другое.
Городулин. А что же именно?
Глумов. Не рассуждать, когда не приказывают, смеяться, когда начальство вздумает сострить, думать и работать за начальников и в то же время уверять их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это вам самим угодно было приказать. Кроме того, нужно иметь еще некоторые лакейские качества, конечно, в соединении с известной долей грациозности: например, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно и неподобострастно, и холопски и вместе с тем благородно, и прямолинейно и грациозно. Когда начальник пошлет за чем-нибудь, надо уметь производить легкое порханье, среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Я еще и половины того не сказал, что надо знать, чтоб дослужиться до чего-нибудь.
Городулин. Прекрасно. То есть все это очень скверно, но говорите Вы прекрасно; вот важная вещь. Впрочем, всё это было прежде, теперь совсем другое.
Глумов. Что-то не видать этого другого-то. И притом, все бумага и форма. Целые стены, целые крепости из бумаг и форм. И из этих крепостей только вылетают, в виде бомб, сухие циркуляры и предписания.
Городулин. Как это хорошо! Превосходно, превосходно! Вот талант!
Глумов. Я очень рад, что Вы сочувствуете моим идеям. Но так мало у нас таких людей!»
Вот тут-то Глумов и сажает Городулина на крючок. Весь либерализм этого «Репетилова 60-х годов» ограничен звонкой фразой.
Вслед за своим предшественником он с полным основанием мог бы заявить: «Шумим, братец, шумим». Потому-то и нравятся ему лишь обороты глумовской речи, а не ее суть: «Нам идеи что! Кто же их не имеет, таких идей? Слова, фразы очень хороши». Потому-то, откровенно говоря Глумову, что думать ему «решительно некогда», Городулин просит записать все сказанное на бумажку, чтобы назавтра пересказать за обедом.
А результат? Тот же, что и с Крутицким: «А как Вы говорите! Да, нам такие люди нужны, нужны, батюшка, нужны!.. А то, признаться Вам, чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому, нападут старики врасплох. Ну, и беда… Хор-то есть, да запевалы нет. Вы будете запевать, а мы вам подтягивать».
Подобрал Глумов свой ключик и к сердцу ханжи Турусиной, в кружке которой мирно уживались и Мамаев, и Крутицкий, и Городулин. Они-то дружно и рекомендовали ей способного и благочестивого молодого человека в качестве жениха для племянницы. Турусину даже удивило, что его так нахваливали «люди совершенно противоположных убеждений». Эта «барыня, родом из купчих» — особа весьма вздорная и подозрительная, дремучая и привередливая, но и она доверилась Глумову, тонко заманившему ее в свои расчетливые сети. Недаром Городулин заметил восхищенно: «Да как же вы поладили с Турусиной; ведь вы вольнодумец».
Интересный момент. Для Городулина Глумов…..вольнодумец, с кем он упоенно ругает стариков, Крутицкого и Турусину. И для Мамаева — свой: с ним обсуждаются причуды Крутицкого. И для Крутицкого Глумов — «из наших»: именно в их разговоре достается Городулину и Мамаеву с женой. Каждый, считая Глумова своим, бранит с ним других. И Глумов бранит тех, с кем только что улыбался и ругал иных. И в обоих случаях так искренне, так кстати — в полном соответствии с мнением собеседника.
Кстати, о вновь всплывшем и уже знакомом нам словечке «вольнодумец». Похоже, что сильные мира сего во все литературные времена едины в своем неприятии нового и независимого. Не случайно взгляды Крутицкого так напоминают охранительные монологи Фамусова, а Турусина почти повторяет грибоедовских старух: «До чего вольнодумство-то доходит, до чего позволяют себе забываться молодые люди!» Не исключено, что в ее представлениях каким-то образом отозвался общий глас гоголевских персонажей, возмущенных минутным гусарством Чичикова: «Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться?»
Одним словом, интрига Глумову блестяще удалась. Он всем пришелся ко двору и должен был вот-вот окончательно войти в дружеский круг. Но… Случилось непредвиденное. Дневник Глумова, в котором он писал правду о своих благодетелях, сделался достоянием гласности. Обман, скандал, все возмущены! «Милостивый государь, — заявляет от их имени Крутицкий, — наше общество состоит из честных людей». Тут же и остальные подхватывают: «Да, да, да!»
Мы помним, что «родственники» Глумова тоже попадали в разные переплеты, но умели или надеялись выйти сухими из воды, ибо в главном никогда не переступали границы, отделяющей «наших» от «не наших». В общем-то не переступил и Глумов, хотя заявил в сердцах: «Но знайте, господа, что, пока я был между вами, в вашем обществе, я только тогда и был честен, когда писал этот дневник».
Да, он нарушил правила игры, но не настолько, чтобы оказаться по другую сторону баррикад. «Чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы нашли в нем нового для себя? Вы сами то же постоянно говорите друг про друга, только не в глаза. Если б я сам прочел вам, каждому отдельно, то, что про других писано, вы бы мне аплодировали». Действительно, каждый из присутствующих наедине с Глумовым злословил о других и получал от этого удовольствие, что не мешало им держаться вместе, ибо «совершенная противоположность убеждений» была лишь внешней, не затрагивающей общие устои. Не покусился на них и Глумов. Он отнюдь не Чацкий! Разрыв с кружком Турусиной означает для него «всё»: потерю денег и репутации, — а это как раз те ценности, которые имеют первостепенное значение и для остальных. Следовательно, дело не в разнице идеалов и принципов, а в оплошности, которая в общем-то сродни промаху Молчалина: «На всякого мудреца довольно простоты». Молод еще, но это пройдет..
Он ведь не чужой, он свой, удобный и полезный. Это прекрасно знает сам Глумов: «Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже меня, и вы будете говорить: эх, этот хуже Глумова, а все-таки славный малый». Знают и остальные. По мере развития событий и врастания Глумова в общество «честных людей» степень понимания этого многократно увеличивается. Даже разоблачение отступника уже не может остановить сближения сторон — им, бесспорно, нельзя друг без друга: те, кому угождают, и те, кто угождает, созданы для одних дел, они ищут и находят своих. А потому строгий реалист Островский и кончает повествование о торжестве подлости и гибели ума на «оптимистической» ноте:
«Крутицкий. А ведь он все-таки, господа, что ни говори, деловой человек. Наказать его надо; но, я полагаю, через несколько времени можно его опять приласкать.
Городулин. Непременно.
Мамаев. Я согласен.
Мамаева. Уж это я возьму на себя».
И приласкают, и простят, и Глумов вернется, чтобы «награж-денья брать и весело пожить». Чацкого бы не стали возвращать: чужой; да он бы и сам не захотел: чужие. А как, вроде бы, похожи ситуации! Но только снаружи…
К сожалению, в глумлении над нравственными устоями человеческого бытия, когда ум, талант, знания приносятся в жертву благополучию, покупаются и продаются, персонажи Островского не одиноки. История нашей литературы не раз давала тому примеры. Давала их и жизнь. Вот один из недавних. Может быть, не самый яркий, но, как мы сегодня доподлинно знаем, весьма типичный. Из похождений уже знакомого нам Т. Д. Лысенко.
Ю. А. Жданов в 1941 году окончил химический факультет МГУ. Еще будучи студентом, интересовался философскими вопросами естествознания, проблемами генетики. В 1947 году он, сын всемогущего А. А. Жданова, был назначен заведующим Отделом науки ЦК ВКП(б). Внимательно изучив состояние и перспективы развития отечественной биологической науки, Жданов-младший, как человек самостоятельно мыслящий и образованный, убедился, что подлинной борьбы научных направлений нет — она подменена политиканством Лысенко и шельмованием действительно способных ученых.
10 апреля 1948 года в Москве, в зале Политехнического музея, на очередной семинар собрались лекторы обкомов и крайкомов партии. Перед собравшимися выступил новый заведующий Отделом науки. Он говорил о состоянии биологии, об ошибках Лысенко, о монополии в науке, о зажиме важных направлении, которые могли бы принести пользу сельскому хозяйству, и расцвете псевдотеорий, что на практике лопаются как мыльные пузыри, о несбыточных обещаниях скорых успехов в аграрной политике, которыми много лет кормит страну Лысенко.