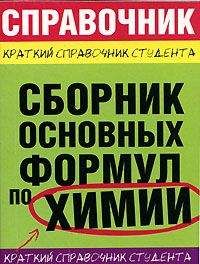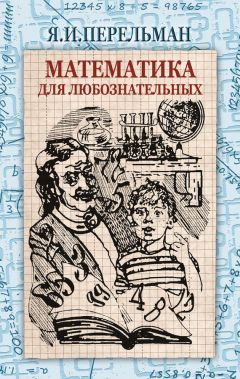Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)
Так к концу XVIII века появляется совершенно новое понятие — женская библиотека. Оставаясь по-прежнему (как уже говорилось, за редкими исключениями) миром чувств, миром детской и хозяйства, «женский мир» становился все более духовным.
Женщина стала читательницей. Но книги были разные, и читательницы — тоже. Мы знаем в конце XVIII — начале XIX века замечательных русских женщин, которые, как Татьяна Ларина или Полина из пушкинской повести «Рославлев», были приобщены к высшим проявлениям европейской и русской литературы. Но документы сохранили для нас упоминания и многочисленных уже в пушкинскую эпоху девушек и женщин, не отличавшихся особыми талантами. Это не были писательницы, как Е. Ростопчина, или участницы исторических событий, как Н. Дурова. Это были матери. И хотя имена их остались неизвестными, их роль в истории русской культуры, в духовной жизни последующих поколений огромна. Домашние библиотеки женщин конца XVIII — начала XIX века сформировали облик людей 1812 года и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов — взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века.
Но не только привычка к чтению меняла облик женщины. Женский быт изменялся стремительно, и моды, костюмы, поведение бабушек внучкам представлялись карикатурными и вызывали смех. Казалось бы, женский мир, связанный с вечными свойствами человека: любовью, семейной жизнью, воспитанием детей, — должен был быть более стабильным, чем суетный мир мужчин. Но в XVIII веке получилось иначе: реформы Петра I перевернули не только государственную жизнь, но и домашний уклад.
Первое последствие реформ для женщин — это стремление внешне изменить облик, приблизиться к типу западноевропейской светской женщины. Меняется одежда, прически — например, появляется обязательный парик. Кстати, парики, для того чтобы они хорошо сидели, надевались на остриженную голову. Поэтому когда вы видите на портретах XVIII века красивые женские прически, — это прически из чужих волос. Парики пудрили. В «Пиковой даме», как вы помните, старуха-графиня, хотя действие повести происходит в 30-е годы XIX века, одевается по модам 70-х годов XVIII столетия. У Пушкина есть фраза: «…сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы». Действительно, так оно и было.
Платья, разумеется, тоже стали другими. Изменился и весь способ поведения. В годы петровских реформ и последующие женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек (и на крестьянок).
В модах царила искусственность. Женщины тратили много сил на изменение внешности. Моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный цвет, и в купеческом мире это считалось идеалом красоты[40].
В более европеизированном обществе зубы, конечно, не чернили. Но и здесь имелись способы изменять свою внешность. Например, на лицо налепляли мушки, которые делались из тафты или из бархата. Место, куда прилеплялись мушки, не было случайным. Например, мушка в углу глаза означала: «Я вами интересуюсь», мушка на верхней губе: «Я хочу целоваться». А поскольку в руках у женщины был веер, движения которого также получали особый смысл (например, резкое закрывание веера означало: «Вы мне не интересны!»), то комбинации мушек и игры веера создавали своеобразный «язык кокетства».
Дамы кокетничали, дамы вели в основном вечерний образ жизни. А вечером, при свечах, требовался яркий макияж, потому что при свечах лица бледнеют (тем более — в Петербурге с его зловредным климатом!). Из-за этого у дам уходило очень много (за год, наверное, с полпуда!) румян, белил и разной другой косметики. Красились очень густо.
В петровский период женщина еще не привыкла много читать, еще не стремилась к разнообразию духовной жизни (конечно, это лишь в массе: в России уже были писательницы). Духовные потребности большинства женщин удовлетворялись еще так же, как в допетровской Руси: церковь, церковный календарь, посты, молитвы. Разумеется, до конца XVIII столетия, до «эпохи вольтерьянства», в России все были верующими. Это было нормой, и это создавало нравственную традицию в семье.
Однако и семья в начале XVIII века очень быстро подверглась такой же поверхностной европеизации, как и одежда. Женщина стала считать нужным, модным иметь любовника, без этого она как бы «отставала» от времени. Кокетство, балы, танцы, пение — вот женские занятия. Семья, хозяйство, воспитание детей отходили на задний план. Очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью. Это делают кормилицы. В результате ребенок вырастал почти без матери. (Конечно, это не в провинции и, конечно, не у какой-нибудь бедной помещицы, у которой двенадцать человек детей и тридцать душ крепостных, а у дворянской, чаще всего — петербургской, знати).
И вдруг произошли быстрые и очень важные перемены. Примерно к 70-м годам XVIII века над Европой проносится дыхание нового времени. Зарождается романтизм, и, особенно после сочинений Ж. Ж. Руссо, становится принятым стремиться к природе, к «естественности» нравов и поведения.
Веяния эти проникли и в Россию. В сознание людей последней четверти XVIII века начинает постепенно проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты. «Неестественные» моды начинают вызывать отрицательное отношение, а идеалом становится «естественность», образцы которой искали в женских фигурах античности или в «театрализованном» крестьянском быту. Одежды теперь просты: нет уже ни роскошных юбок с фижмами, ни корсетов, ни тяжелой парчи. Женская одежда делается из легкой ткани. Рубашка с очень высокой талией представляется защитникам культа Природы «естественной». Простоту одежды пропагандирует эпоха французской революции. Павел I тщетно пытался остановить моду: на последний ужин перед тем, как его убили, императрица Мария Федоровна пришла к нему в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи — дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной.
На портретах этой поры мы видим, как новая манера одеваться соединилась с естественностью, простотой движений, живым выражением лица. Так, на портрете М. И. Лопухиной В. Боровиковского отнюдь не случайно фоном вместо привычных тогда бюста императрицы или же пышного архитектурного сооружения стали колосья ржи и васильки. Девушка и природа соотнесены в своей естественности.
Появились платья, которые позже стали называть онегинскими, хотя они вошли в моду задолго до опубликования «Евгения Онегина», уже на грани двух веков. Вместе с изменением стиля одежды меняются и прически: женщины (как и мужчины) отказываются от париков — здесь тоже побеждает «естественность». Мода эта перешагивает через границы, и, хотя между революционным Парижем и остальной Европой идет война, попытки остановить моду у политических границ оказываются тщетными. Женщины одержали здесь блестящую победу над политикой.
Перемена вкусов коснулась и косметики (как и всего вообще, что меняло женскую внешность). Просветительский идеал простоты резко сокращает употребление красок. Бледность (если не естественная, то создаваемая с большим искусством!) стала обязательным элементом женской привлекательности.
Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная — это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты — и портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случаи, когда художник для торжественного портрета (а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами) награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно относятся и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого.
С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность — знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным. Жуковский скажет:
Мила для взора живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.
Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идет грусть. Мужчинам нравилось, чтобы в печальных, мечтательных голубых женских глазах блестели слезы и чтобы женщина, читая стихи, уносилась душой куда-то вдаль — в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает.
Впрочем, романтический идеал женщины-ангела имел и своего двойника: