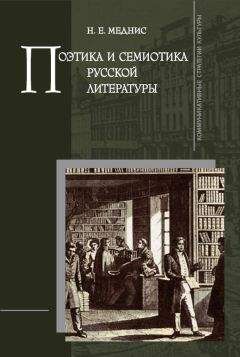Виталий Шенталинский - Марина, Ариадна, Сергей
Судьба почти всех советских разведчиков руководителей Эфрона оборвалась рано, еще до его ареста. В 1937 году, когда Ежов подверг чистке Иностранный отдел НКВД, многие из них были расстреляны в тех же самых застенках.
Дополнительный свет на агентурную работу Эфрона проливает данное в 1956 году при его реабилитации свидетельство старого, почетного чекиста В. И. Пудина:
«С 1935 по 1938 г. я работал в Иностранном отделе НКВД и занимался разработкой активных белогвардейских организаций за рубежом… Организа ция евразийцев была создана в 20‑х гг., являлась малочисленной, активной антисоветской деятельности не проводила, а поэтому ей очень мало уделялось внимания и активной разработки по линии борьбы с ней не велось… В 1938 г. я в школе ИНО НКВД читал лекции об антисоветских белоэмигрантских организациях и о методах борьбы с ними. В своих примерах я даже не приводил как антисоветскую организацию евразийцев…
В Иностранном отделе НКВД не было никаких данных о принадлежности Клепининых и Эфрона к агентуре иностранных разведок, работавших против СССР, поэтому работники нашего отдела возмущались арестом этих лиц. Мне не известно, чтобы руководители отдела в официальном порядке ставили вопрос о необоснованности ареста этих лиц… Клепинины — Львовы и Эфрон по работе как агенты нашей разведки характеризовались только положительно».
В те же дни в прокуратуре допросили в качестве свидетеля Е. А. Хенкину — Нелидову, парижскую подругу семьи Эфрона и его коллегу по секретной работе. Она дала Сергею Яковлевичу восторженную характеристику:
«Эфрон был очень умный, порядочный человек, он принадлежит к числу таких людей, которые за идею готовы пойти на все, которые не могут кривить душой, играть двойную игру. При встречах Эфрон говорил мне, что очень сожалеет о своих ошибках в прошлом, сожалеет о том, что служил в Белой армии и вообще не понял сразу Советскую власть… Я чувствовала, что Эфрон окончательно порвал с прошлым, сложившиеся у него новые взгляды на жизнь были если не в полной мере марксистскими, то, во всяком случае, очень близкими к этому. В своей работе Эфрон доказывал, что его слова о любви к родине и об удовлетворенности происходящим в СССР являются не просто словами. Эфрон много работал в Союзе возвращения на Родину, принося большую пользу в смысле завоевания симпатий членов Союза к советской стране. Эфрон также очень много сделал как неофициальный сотрудник наших органов. Об этом мне стало известно от работников советского консульства, отдельные поручения которых я выполняла. Личность Эфрона может охарактеризовать также то, что антисоветски настроенные белоэмигранты отрицательно относились к Эфрону, называя его «ренегатом» и т. д. Такое отношение со стороны врагов Советской власти говорит о том, что Эфрон был другом Советской власти. Я старый человек, повидала многих людей, научилась в них разбираться. Я твердо заявляю, что Эфрон один из немногих, за которых я могу поручиться чем угодно. Эфрон действительно честный человек, а свои
прошлые ошибки он не только не скрывал, но и бичевал себя за них, стараясь в какой–то мере загладить свою вину перед советской страной».
В начале июня в следствии по делу Эфрона решено было поставить точку. Совершив круг по московским тюрьмам, он снова очутился на Лубянке. Следователь Еломанов составляет соответствующий протокол, Эфрон, «ознакомившись с материалами дела, дополнить следствие ничем не имеет». Подписывается он с трудом, как ребенок, большими неровными буквами.
А потом в деле идет протокол еще одного допроса от 9 июня документ неожиданный и очень странный, одним махом разрубающий для следствия все узлы. Эфрон с первого же вопроса заявляет: «Да, я являлся агентом французской разведки…» показывает, что был завербован масонами, в частности неким Петром Бобринским, и получил задание «установить знакомство с советской колонией и приближать к себе русских эмигрантов»…
Так что же все–таки сломали? Вряд ли. Внимательное изучение этой бумаги приводит к выводу: перед нами фальшивка. Подпись Эфрона настолько искажена и трудноузнаваема, что или была поставлена им в невменяемом состоянии, или вообще другим лицом. А может быть, добыта заранее, на чистом листе: текст «признания» и подпись не стыкуются, слишком разнесены…
Сомнения рассеивает следующий документ в деле постановление о продлении срока следствия: «…Эфрон С. Я. являетс резидентом французской разведки, виновным себя не признал… принимая во внимание, что следствие еще не закончено… возбудить ходатайство о продлении срока следствия…»
В ежедневной борьбе за жизнь, в постоянной заботе достать денег, еды, дров, керосина, в изнурительном переводе, изводе себя на чужие стихи, в тревоге и боли за близких, в холоде, унижении и страхе прошли зима и весна в Голицыне.
Теперь и отсюда гнали. Цветаевой предложили освободить комнату. И снова встала проблема: куда деться? И опять чужой дом, временное пристанище. Нашлись добрые люди искусствовед Александр Георгиевич и художница Наталья Алексеевна Габричевские, на лето, пока будут в Крыму, предложили пожить в своей квартире.
Поселились, как пишет Цветаева в своей рабочей тетради, «в комнате Зоологического музея… покой, то благообразие, которого нет и наверное не будет в моей… оставшейся жизни…».
В этом доме она и пишет свое третье письмо в НКВД.
«Москва, 14 июня 1940 г.
Народному Комиссару Внутренних Дел
тов. Л. П. Берия
Уважаемый товарищ,
Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27‑го августа 1939 г. находится в заключении мо дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10‑го октября того же года мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).
После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской и ныне опять переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.
Суд по тому, что мой муж, после долгого перерыва, вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон 8 месяцев, Ариадна Эфрон 10 месяцев) мне кажется, что следствие подходит а может, уже и подошло к концу.
Все это время мен очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным (до этого он два года тяжело хворал).
Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5‑го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.
Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью два месяца, с мужем три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.
Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание.
Марина Цветаева.
Сейчас я временно проживаю по следующему адр.:
Москва, улица Герцена, д.6, кв.20. (Телеф. К-0–40–13)».
Судьба и этого послани та же, что и предыдущих: его отправляют в следчасть и замуровывают в канцелярскую папку без ответа.
Прежде всего бросается в глаза «вы» по отношению к наркому уже с маленькой буквы. Обращение не к личности, как в первом письме, а к безликому учреждению. И достоинство при очевидном отчаянье! «Лучший человек» главному палачу про его жертву при всеобщем гипнозе страха, когда самые близкие люди отрекались друг от друга. «Лучший человек» несмотря ни на что, уже давно зная о двойной жизни Сергея и роковой роли в постигшей их семью участи.
Жажда подвига, романтический склад души, самоотверженное служение в этом они были похожи. Только служили разным богам. Она поэзии, он политике. Она звала: летим? А он ходил по земле, ему была нужна внешняя точка опоры, заемная социальная идея: сначала Белое движение, потом евразийство и наконец русский коммунизм. «Идеалист, влюбленный в пятилетку» как кто–то его назвал. А дети Ариадна и Мур разрывались между отцом и матерью и больше всего хотели обрести независимость, встать на собственные ноги и тоже на земле… «Союз одиночеств» как говорила Ариадна.
Маринины одиночество и обреченность были особого рода. Максимализм поэта требовал невозможного. Она изнемогала от быта, мелкой обыденности, которая держала ее в тисках. От того, что возможность близости с каждым и своим, и чужим была исчерпана, а она, жаждущая обновления любви (этим жила!), всем мешала, казалась старой. От фатального разлада с враждебной ей современностью ее высокое поколение уходило из жизни, а она оставалась «одна за всех… противу всех».
Она несла на себе дар поэтического служения, кроме груза сегодняшнего дня. И этой ноши с ней разделить не мог никто. Даже собственные дети судили ее и осуждали. И отец казался им добрым и милостливым, а мать неудобной и неуживчивой. Она, которая наполняла жизнь высшим смыслом, делала ее значительной, оправдывала перед лицом вечности.