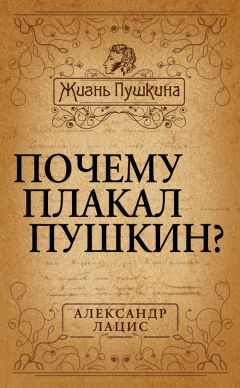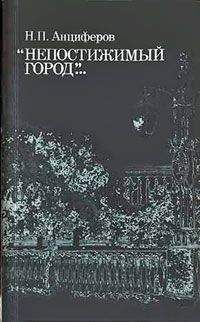Илья Эренбург - Перечитывая Чехова
Говоря о творческом пути Антона Павловича, обычно называют дату — весну 1886 года как начало «перелома»: именно тогда он получил неожиданно письмо от старого писателя Григоровича, ободряющее и в то же время укоряющее молодого автора за легкомысленное отношение к труду писателя. После этого письма веселый, не очень взыскательный к своей работе сотрудник различных юмористических «зданий Антоша Чехонте превращается в писателя Чехова. Но вот рассказ «Тоска». Он был напечатан в январе 1886 года в «Петербургской газете» в отделе «Летучие заметки» и подписан А. Чехонте. Это рассказ об извозчике Ионе, у которого умер сын; напрасно он пытается рассказать об этом седокам — никто не хочет слушать печальную историю. Тогда извозчик ночью обращается к лошади: «Так–то, брат, кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Теперя, скажем, у тебя жеребеночек и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить…» Как сумел Чехов перевоплотиться в старого Иону? Письма того периода, воспоминания современников показывают нам человека, любящего проказы, шутки, еще не знающего, кто он — врач или литератор, в один присест пишущего коротенький рассказ — то для «Осколков», то для «Будильника», то для «Сверчка», то для «Петербургской газеты». (В январе 1886 года были опубликованы семь рассказов Чехонте.) И вот именно тогда Антон Павлович написал «Тоску».
Три года спустя уже не Чехонте, а Чехов напечатал «Скучную историю». Автору было двадцать девять лет, а герою повествования— шестьдесят два года. Томас Манн незадолго до своей смерти написал статью о Чехове; он говорит, что больше всего дорожит «Скучной историей»: «Это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее: сила ее воздействия, ее особенность — в тихом, грустном тоне. Эта история вызывает хотя бы уже по одному тому удивление, что именуется «скучной», в то время как она потрясает; вдобавок она написана молодым человеком, которому не было еще и тридцати лет; вложена она с предельным проникновением в уста старика, ученого с мировым именем…»
Перечитывая Чехова, я то и дело удивляюсь: как мог он показать и душевное беспокойство беременной Ольги в «Именинах», и муки Липы, потерявшей ребенка («В овраге»), и отчаяние тринадцатилетней Варьки в «Спать хочется»?
Куприн писал о Чехове: «Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе и походке — то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя». Свидетель на суде, который рассказывает то, что известно всем, никому не нужен — ни обвинению, ни защите. Любой писатель, если только он достоин именоваться писателем, видит нечто, ускользающее от глаза среднего наблюдателя. Не пора ли отказаться от наблюдательности как от основного качества писателя? Наблюдательным может быть умный и опытный репортер с фотоаппаратом; но вряд ли кто–нибудь, говоря о «Войне и мире» или о портретах Рембрандта, объяснит эти произведения искусства только наблюдательностью. Конечно, писателей куда меньше, чем профессиональных беллетристов; писатель, большой, средний или даже маленький, умеет не только видеть своих героев, но разделять с ними их переживания. Этот дар сопереживания обычно называют перевоплощением автора, и если задуматься над книгами Чехова, то видишь, что за свою короткую жизнь он прожил сотни человеческих жизней.
5Читателей неизменно интересует, кого автор изобразил под таким–то именем, с кого написал такой–то персонаж. Между тем романов или рассказов с ключом не так уж много и, пожалуй, это не вершины художественного творчества. При жизни Чехова ходили легенды о так называемых «прототипах» его персонажей. Эти домыслы удивляли, а порой и сердили Антона Павловича. Уверяли, например, что «Попрыгунья» — это Кувшинникова, муж которой доктор и которая влюблена в художника Левитана. Чехов писал Авиловой: «Можете себе представить, одна знакомая моя, сорокадвухлетняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи»… и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». Казалось бы, на этом кончалось сходство, ибо художник Рябовский показан непривлекательным, а Левитана Чехов нежно любил и ценил, Кувшинникова, по словам современников, была отнюдь не попрыгуньей и ее муж — не ученым, подававшим надежды, но бесцветным полицейским врачом. Однако разговоры продолжались. Левитан всерьез обиделся на Антона Павловича. (Кажется, только Кувшинников, который когда–то учился медицине вместе с Чеховым, сохранял спокойствие; может быть, ему льстило, что он превращен в Дымова.)
Нечто подобное произошло и с «Чайкой». В Нине Заречной увидели Лику Мизинову, красивую молодую девушку, которая мечтала стать оперной певицей, часто бывала в доме Чеховых и влюбилась в Антона Павловича. Говорили, что Тригорин — это писатель Потапенко. Сходство подтверждалось и тем, что у него была связь с Ликой, и тем, что он ее бросил, а у нее после этого умер ребенок. Чехов, видимо вначале ни о чем не подозревая, просил Потапенко посодействовать скорейшему прохождению пьесы через цензуру. Когда разговоры о том, что в «Чайке» показана подлинная история, дошли до Антона Павловича, он всполошился: «Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя». Лика писала Чехову: «Здесь все говорят, что «Чайка» заимствована из моей жизни, и еще, что вы хорошо отделали еще кого–то…»
Для того чтобы понять сложность рождения героев Чехова, я хочу остановиться именно на «Чайке», где наличие прототипов внешне неоспоримо. По сюжетной канве Нина — Лика, Тригорин — Потапенко, Аркадьина — жена Потапенко, а Треплев — припутанный к истории «декадент». Что касается чайки, то и у нее имеется прототип: чайка — это вальдшнеп; в 1892 году Чехов ходил с Левитаном на охоту; художник пробил крыло вальдшнепу. Чехов писал: «Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу»… Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать».
Вполне возможно, что взгляд подстреленной птицы запомнился Чехову. Драма Лики Мизиновой была слишком связана с его жизнью, чтобы он о ней не думал, не вспоминал писем Лики: «Может быть, это глупо, даже неприлично писать, но так как вы и без этого знаете, что это так, то и не станете судить меня за это…». «Вы отлично знаете, как я отношусь к вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и ваше отношение или снисходительное, или полное игнорирования… Умоляю вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной…» Отвергнутая человеком, которого она любила, Лика увлеклась беллетристом Потапенко; он ее вскоре бросил. Она после этого написала Антону Павловичу: «Видно, уж мне суждено так, что люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И, как я ни думаю, все–таки не могу не сказать, что виной всему вы. Впрочем, такова, видно, судьба…»
Взгляд подстреленной птицы. Письма Лики, ее горе… Конечно, все это вошло в «Чайку». Но напрасно пытаться выдать поэзию за репортаж, живопись — за фотографию для удостоверений. Все герои «Чайки», как и вообще все герои Чехова, не копии существовавших в действительности людей, а сплав наблюдений, собственных переживаний, опыта, догадок, воображения.
Письма Антона Павловича изобилуют сетованиями на работу: «Все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует…», «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового…», «Собственное удовольствие, конечно, хорошая штука; оно чувствуется, пока пишешь, а потом?..», «Оборвавшись на повести, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевиль и этак без конца, до самой дохлой смерти…», «Кончил свой длинный утомительный рассказ…», «Пишу с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма…», «Я должен обязательно писать! Писать, писать и писать!..», «Пуды исписанной бумаги, — и при всем том ни одной строчки, которая в глазах моих, имела бы серьезное литературное значение!..», «А мне надо писать, писать и спешить на почтовых…» В «Чайке» писатель Тригорин говорит: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Едва кончил повесть, как уже почему–то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю?.. Когда пишу, приятно… но… едва выщ–ло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно… Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу…»