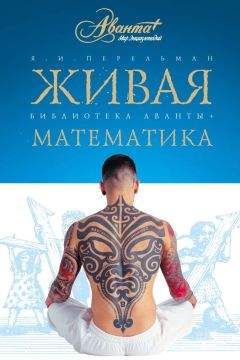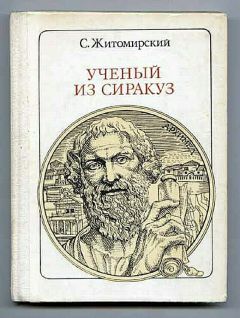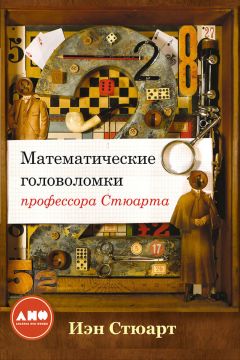Вадим Баранов - Горький без грима. Тайна смерти
Второй период — 1929 год, год великого перелома. Защищая Замятина и Пильняка от преследований, без какой-либо поддержки со стороны литературной общественности, более того, один идя против течения, он обращается с резкими и мужественными письмами к Сталину, критикуя гонения на «еретиков», т. е. инакомыслящих, выступая против превращения партии в массу послушно-бессловесных существ путем привлечения в ее ряды «обозной сволочи». В этих письмах конца года великого перелома он как бы берет реванш за Соловки и тот обман, которому был подвергнут в связи с обещаниями изменить режим в лагере.
Увы, эта форма противостояния сталинизму не могла иметь сколь-нибудь широкого общественного резонанса, так как о содержании тех же писем Сталину современники попросту ничего не знали.
Наконец, третий период — примерно с рубежа 1933–1934 годов вплоть до трагической кончины писателя. Тут вообще ничто не лежит на поверхности, и именно это время давало оппонентам Горького обширный материал для критики. Поводов и в самом деле более чем достаточно, и к тому же они как будто составляют единую целостную картину. Горький и в самом деле понял: у режима нельзя добиться ничего, не идя на уступки ему.
Уступки видели все. Они лежали на поверхности. Более того, их приходилось выставлять напоказ наподобие наград, демонстрирующих верность начальству, которое постоянно ждало немедленного выражения поддержки его политики. И Горький принуждал себя идти на эту жертву сознательно. Трагизм его положения усугублялся еще и тем, что он начинал успокаивать себя, выискивая в политике правительства, так сказать, «положительные элементы», способствующие росту экономического могущества страны.
Кто скажет, что таких «элементов» не было вовсе? Другое дело, каких жертв со стороны измученных нуждой масс вновь и вновь требовали они.
Как известно, компромисс — дело коварное. Не случайно говорят: коготок увяз — всей птичке пропасть. Буревестники — не исключение. По складу своей натуры Горький вовсе не был личностью героической. Сентиментальный, он зачастую впадал в слезливую умилительность по поводу того, что казалось ему подлинным проявлением нового. Не слишком больших усилий стоило ему и убедить себя в том, что это действительно новое и передовое, растущее, как было принято говорить тогда, хотя на самом деле все зачастую оказывалось сложней. Он был «обманываться рад», полагая, что апелляция к сознанию Хозяина может иметь успех (иллюзию подобного рода особенно поддерживала сталинская «игра» с писателями в пору подготовки к съезду). Впрочем, сталинское ожидание от Горького книги о себе, вожде народов, еще раньше поставило писателя в обществе на особую, невиданную высоту и до поры требовало прощать ему то, чего Сталин не простил бы никому.
Вынуждая себя вступать в «игру» и зная сложность натуры Хозяина, Горький все же не мог представить, насколько круто, совсем не по-джентльменски мог тот изменить ее правила в нужный для себя момент. И догадаться, когда начинается игра по новым правилам, было совершенно невозможно.
Итак, горьковские уступки Сталину — у всех на виду. Сопротивление оставалось не заметным для общественности (а уж тем более когда писателя лишали права голоса, как это было в истории с публикацией открытого письма Панферова Горькому). Между тем именно последняя пора утверждения сталинского единовластия оставляла меньше всего возможностей для сопротивления и неподчинения. Следовательно, возрастала нравственная цена каждого оппозиционного поступка. И в эту пору Горький пытался вести свою линию, чем вызвал крайнюю неудовлетворенность вождя.
У Сталина возникали весьма серьезные и имеющие вполне реальную основу опасения по поводу того, к чему может привести впредь поведение великого пролетарского писателя. Дай этим интеллигентам малейшее послабление, и они в самом деле организуют свою партию, о чем с нескрываемым удовлетворением писали в газете меньшевика Николаевского за границей! Этого еще не хватало!
И опасения порождали теперь желание не иметь больше Горького рядом.
Обращаясь к размышлениям об отношении Солженицына к Горькому, вполне естественно, приходится в первую очередь вспоминать соответствующие сцены и оценки в «Архипелаге». Все это прозвучало столь весомо и впечатляюще, что никто не задумался о том, какое место занимает Горький как идейный антипод Солженицына в его художественном мире в целом. Между тем, конечно же, не случайно и в «Раковом корпусе», и «В круге первом», и в эпопее «Красное колесо» содержатся буквально десятки упоминаний имени Горького. Для Солженицына это имя никогда не было нейтральным.
Особенно активную роль играет оно, пожалуй, в «Раковом корпусе», усиливая композиционное противостояние насквозь пропитанного духом бюрократической казенщины Русанова и Костоглодова, — образа, имеющего откровенно автобиографический характер. Но все же сцены в «Архипелаге», бесспорно, — кульминация горьковского «сюжета» в творчестве Солженицына.
Вообще, складывается впечатление, что истоки негативного отношения Солженицына к Горькому давние. И похоже, начинал-то он свою литературную деятельность, в определенной мере руководствуясь логикой внутреннего отталкивания от канонизированного классика. Чувствуя в себе немалые силы и смолоду ориентируясь на большие победы, уже ранний Солженицын сознательно вступал в неведомое постороннему глазу идейное противоборство с Горьким, без ложной скромности готовясь — чем черт не шутит! — занять в литературе место, сопоставимое с горьковским по мере общественного резонанса, но принципиально отличное в концептуальном отношении. Вот такая возникает гипотеза, и, надо полагать, филология еще займется столь любопытной страницей биографии нашего выдающегося современника.
Гипотеза эта подкрепляется и, скажем так, ревниво-состязательным отношением Солженицына к другому классику послеоктябрьской России, Шолохову (отрицание шолоховского авторства «Тихого Дона»).
Солженицын — художник, который внес, безусловно, наибольший личный вклад в критику тоталитарного режима, сложившегося в России после революции, той культуры, которая была порождена им и призвана эстетически утвердить режим в сознании масс. Он встал у самых истоков переоценки ценностей литературы, именовавшейся советской. Совершая восхождение на ту гору, с которой видно всю местность, и, единолично достигнув ее вершины, он столкнул вниз первую глыбу. Так начался обвал. Вниз полетело все то, что не было прочно привязано к почве, к первооснове, — всякого рода пристройки и прилепки, которые лишь внешне казались незыблемыми. И вот гора стала обретать совсем иные, естественно присущие ей очертания. Разрушалась та привнесенная извне симметрия, которая придавала пейзажу привлекательность, а в глазах многих и очарование. Подвиг Солженицына трудно переоценить.
Что же касается механизма обвала, вызванного им, то он нерегулируем. И разве не могли найтись энтузиасты, которым мало сознания, что «процесс пошел», но жаждущие помочь ему и сталкивающие вниз без особого разбора то, что не заслуживало быть разбитым вдребезги и превратиться в мелкую крошку?
То, что для гения становится органической потребностью, эпигоны превращают в моду.
Солженицын воистину выстрадал моральное право на остро критическую оценку общественного поведения Горького. Он судил его высшим судом, мерками своей системы ценностей.
Согласимся, это весьма далеко от того, что несет в себе сенсационно-эпатажный лозунг поминок по всей советской литературе, обусловленный непровозглашенным формально, но объективно исходным отрицанием какой-либо внутренней суверенности художественного сознания и превращающий его лишь в проекцию официальной идеологии. Лозунг оскорбительный для многих советских писателей, которым вопреки запретам, ценой потери здоровья в борьбе с государственной и, сверх оной, партийной цензурой, а порой и ценой жизни удавалось все же говорить горькую правду о войне, судьбах нашей деревни или интеллигенции. Солженицын дал, например, высочайшую оценку повести Залыгина «На Иртыше». Или — надо ли справлять поминки по мужикам и бабам Можаева, коего тоже высоко ценит Солженицын за правду, отстаиваемую мужественно?
И вообще, художественный и публицистический опыт Солженицына до высылки за границу не рождает ни малейших оснований, как это порой делается в нашей критике, отдавать априорное предпочтение крупным писателям, уехавшим за рубеж (В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, Г. Владимов, А. Галич, В. Максимов, А. Синявский и др.), в сравнении с теми, кто остался на родине. Каждого надо оценивать, исходя из реальной весомости сделанного. И если уж на то пошло, общественное значение книг оставшихся дома писателей (будь то Ч. Айтматов, В. Дудинцев, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, Б. Окуджава, В. Быков, А. Бек и другие) стоило бы оценивать с учетом тех разных, специфически «нашенских» трудностей, которых не было «там» («там» были свои трудности, совсем другие, и их тоже, разумеется, не следует сбрасывать со счетов).